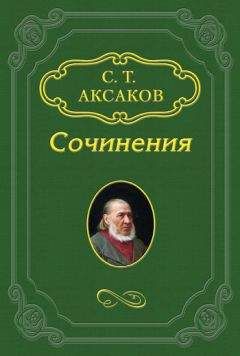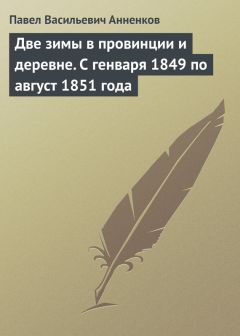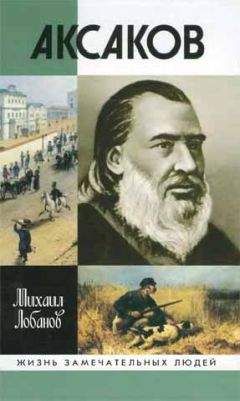Много прошло времени, в продолжение которого ничего особенного не случилось. Слава моя не падала, а, смею сказать, увеличивалась. Мне сделали вторичное предложение из Петербурга, законным порядком, на бумаге; а Дмитревский[40] писал ко мне частным образом, тоже от имени директора, что если я прослужу лет десять на петербургском театре, то мне зачтут годы частной службы у Медокса и обратят мое жалованье в пенсион. Жалованья предложили мне две тысячи рублей ассигнациями и полный бенефис в зимний карнавал. В таком же роде предложение, хотя с меньшими выгодами, сделано было актеру Сахарову[41] и, по моему ходатайству, вдове покойного моего приятеля, Надежде Федоровне Калиграф: ей предложили шестьсот рублей жалованья. Мы все трое подумали, посоветовались и решились переехать в Петербург.
Дебюты наши были довольно удачны, особенно мои. Сахаров понравился в роли Христиерна, в трагедии Княжнина „Рослав“,[42] Надежда Федоровна – в „Мисс Сарре Сампсон“[43] и в „Титовом милосердии“, а я – в „Эмилии Галотти“ и в „Ярбе“. Хотя я не вдруг приобрел благосклонность петербургской публики, у которой всегда было какое-то предубеждение и даже презрение к московским актерам с Медоксова театра, но я уверен, что непременно бы добился полного благоволения в Петербурге, если б года через два не появился новый дебютант на петербургской сцене, А. С. Яковлев, которого ты довольно знаешь. Он и теперь ничего не смыслит в театральном искусстве, а тогда был совершенный мужик, сиделец из-за прилавка. Нечего и говорить, что бог одарил его всем. И. А. Дмитревский был его учителем и покровителем. Дмитревский не то, что мы: он знаком со всею знатью и с двором; в театральных делах ему верили, как оракулу. Он поехал по всему городу, заранее расхвалил нового дебютанта, и Яковлев был так принят публикой, что, я думаю, и самого Дмитревского во время его славы так не принимали. Грешный человек, я подозреваю, что Иван Афанасьич хлопотал об Яковлеве не из одной любви к его таланту, а из невинного желания втоптать меня в грязь, потому что он не мог простить мне, как я осмелился вывести его на свежую воду при моем дебюте в „Ярбе“; он не любил людей, которые видят его насквозь и не скрывают этого. Впрочем, я совершенно убежден, что он сам не предвидел таких блистательных успехов своего ученика и что он был не совсем ими доволен. Я не хочу перед тобой запираться и уверять, что успех Яковлева не был мне досаден. Скажу откровенно, что он чуть не убил меня совсем. Публика, начинавшая меня и ценить и любить, вдруг ко мне охладела, так что если б не надежда на пенсию, на кусок хлеба под старость, то я не остался бы и одной недели в Петербурге. Стыдно бывало играть! В той самой роли, в которой за две недели встречали и провожали меня аплодисментами – никто разу не хлопнет, да еще не слушают, а шумят, когда говоришь. Горько было мне, любезный друг, очень горько. Положим, Яковлев талант, да за что же оскорблять меня, который уже несколько лет доставлял публике удовольствие?.. И добро бы это был истинный артист, а то ведь одна только наружность. – Все думали, что я не выдержу такого афронта и возвращусь в Москву, которая некогда носила меня на руках; но бог подкрепил меня. Много ночей провел я без сна, думал, соображал и решился – не уступать. Я сделал план, как вести себя, и крепко его держался. Меня ободряла мысль, что не будет же Дмитревский все роли учить Яковлева, как скворца с органчика, и что он даже выученное скоро забудет и пойдет так врать, что публика образумится. Этот расчет только отчасти не обманул меня. Яковлев скоро зазнался, загулял и стал реже ходить к Дмитревскому: старик осердился и принялся побранивать во всех знакомых ему домах игру бывшего своего ученика. Лучшая половина публики очнулась, поняла свою ошибку; но остальная, особенно раек, продолжала без ума хлопать и превозносить нового актера. Между тем некоторые из моих молодых ролей совсем перешли к Яковлеву, и я сам от них отказался; но зато тем крепче держался я за те роли, в которых мое искусство могло соперничать с его дарованьем и выгодной наружностью. Я постоянно изучал эти роли и их довел до возможного для меня совершенства. Образованная часть публики, опомнившись от угара, начала принимать меня если не по-прежнему, то все довольно хорошо. Я начал отдыхать. Вдруг Яковлев вздумал сыграть „Сына любви“, роль, которую всегда играл я с успехом: забасил, задекламировал и скорчил героя вместо простого солдата. Публика приняла его очень плохо. Я упросил дирекцию, через одного приятеля, чтобы через два дня дали мне сыграть „Сына любви“ и – был так принят, как меня никогда в этой роли не принимали: публика почувствовала разницу между актером, понимающим свое дело, и красивым, хотя даровитым невеждой. Почти то же случилось, когда Яковлев вздумал сыграть Ярба, который считался лучшею моею ролью. Дмитревский, играя Ярба, никогда не чернил себе лица; это был каприз, и при его великом искусстве и таланте публика не обращала внимания на цвет его лица. Яковлев вздумал сделать то же и явился белым посреди своей черной свиты; публике это очень не понравилось, и его приняли хотя не так плохо, как в „Сыне любви“, но гораздо хуже, чем в других ролях. Но, боже мой, как бы он мог быть хорош в этой роли с его чудесными средствами! Через неделю назначили „Дидону“. Я должен был явиться в Ярбе; мне многого стоило, чтоб победить в себе неуверенность в успехе. И точно, я был принят несколько хуже прежнего, но несравненно лучше Яковлева; итак, дела находились в сносном положении.
Я сказал тебе, что петербургская трагическая актриса Татьяна Михайловна Троепольская страдала одною болезнию с Плавильщиковым, то есть, говоря их словами, излишнею горячностью, и что они взаимно сбивали друг друга. Мне рассказывали, что Плавильщиков, во время пребывания своего в Петербурге, перед началом представления пиесы, всегда старался подгорячить Троепольскую и говаривал: „Ну, матушка Татьяна Михайловна, не ударимте себя лицом в грязь, сыграемте сегодня на славу!“ – и оба доходили до таких излишеств, что приводили публику в смех. Я употреблял совершенно противоположную методу: я всегда говорил Троепольской перед выходом на сцену, что мне как-то нездоровится, что я чувствую какую-то слабость или что я совсем не расположен сегодня играть, чувствую себя как-то не в духе, и просил ее помочь мне спустить спектакль кое-как, переваливая пень через колоду. Эта проделка мне удавалась: в той сцене, где надобно было побольше огня, поджечь Татьяну Михайловну ничего не стоило, и пиеса сходила ладнехонько. Это было в самом начале моего пребывания в Петербурге.