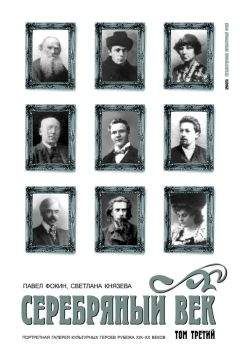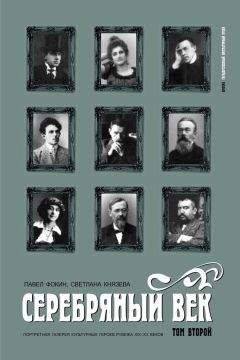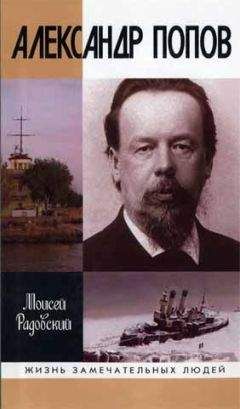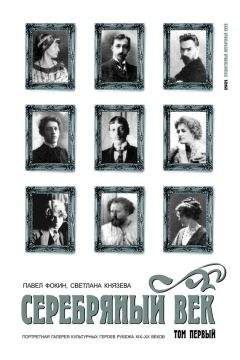В книгах Шишкова бурлит, бушует, раскрывается во многих своих проявлениях народная жизнь, его герои выхвачены из самой глубины, вылеплены рукой суровой и благожелательной, правдивой и сильной. Но читателю не видна эта авторская рука за широкими, яркими, то трагическими, то насыщенными юмором картинами страстей и судеб человеческих.
Любимые герои Шишкова богатырски борются со злой силой рабства и угнетения. Автор же всех этих произведений, полных буйства и борьбы, в контраст с этими бурями в своих книгах, был тих, скромен, сдержан, отзывчив, но неуступчив в вопросах принципиальных. Эта неуступчивость напоминала людям, что перед ними отнюдь не мягкотелый человек. Вспоминалось, что этот человек в черной шляпе и черном пальто, похожий на сельского учителя, водил людей в опасные походы и не сгибался перед грозами жизни и природы.
Шишков из всего своего жизненного опыта вынес удивительно доброе отношение к людям. С большим вниманием он приглядывался, присматривался к новым поколениям писателей, легко вступал в знакомство и товарищество. Пристально он изучал жизнь и людей и, опытный путешественник, то и дело пускался в странствия. Однажды (это было в двадцатые годы) он надел котомку и отправился в пеший поход, чтобы как следует увидеть перемены в жизни, перемены в людях. Часто принимал он неожиданных и странных гостей. Когда он писал свою книгу „Странники“, его посетителями были беспризорники, почуявшие в этом дяде с бородкой доброго и сильного друга» (М. Слонимский. Воспоминания).
ШКАПСКАЯ (урожд. Андреевская) Мария Михайловна
3(15).10.1891 – 7.9.1952
Поэтесса. Публикации в газете «День», журнале «Вестник Европы» и др. Сборники стихов «Mater dolorosa» (Пг., 1921), «Час вечерний» (Пг., 1922), «Барабан Строгого Господина» (Берлин, 1922), «Кровь-руда» (Берлин, 1922), «Книга о Лукавом Сеятеле» (Пг., 1923), «Ца-ца-ца» (Берлин, 1923), «Явь. Поэма» (М.; Пг., 1923), «Земные ремесла» (М., 1925).
«Может быть, я не настоящий поэт. Меня всегда больше заботит, как бы не помешало мое творчество – моей живой реальной жизни» (М. Шкапская. Дневники).
«Это была очень милая женщина, средних лет, писавшая стихи, жена инженера, мать двух прелестных мальчиков. Жила она на Петроградской стороне, и у нее тоже был литературный салон вроде наппельбаумановского, но поменьше, и посещали ее преимущественно литераторы, обитавшие на Петроградской стороне» (Н. Чуковский. Литературные воспоминания).
«Для Шкапской, такой органичной, биологической, такой гинекологической (Шкапская – талант неподдельный!), бог – нечто вроде свахи и повитухи, т. е. с атрибутами всемогущей салопницы. И если позволена будет нота субъективизма, мы охотно признаем, что этот широкозадый бабий бог хоть и не очень импозантен, но куда симпатичнее надзвездного парового цыпленка мистической философии» (Л. Троцкий. Литература и революция).
ШКЛОВСКИЙ Виктор Борисович
12(24).1.1893 – 5.12.1984
Литературовед, писатель, критик. Книги «Воскрешение слова» (Пг., 1914), «Свинцовый жребий» (Пг., 1914), «Сентиментальное путешествие» (Берлин, 1923), «Zoo. Песни не о любви» (Берлин, 1923) и др.
«До революции Шкловский был не только юн, но, что называется, „инфантилен“. Другими словами, казался именно румяным, как яблочко, мальчиком, выпрыгнувшим в футуризм прямо из детской» (В. Пяст. Встречи).
«Те, кто желал работать с нами, могли это делать, не именуя себя футуристами. Так поступил Виктор Шкловский, с которым меня в декабре тринадцатого года познакомил Кульбин.
Кульбин был слишком любвеобилен и медоточив и слишком легко раздавал патенты на гениальность, чтобы к каждой его рекомендации можно было относиться с полным доверием. Однако розовощекий юноша в студенческом мундире, тугой воротник которого заставлял его задирать голову даже выше того, к чему обязывает самый малый рост, действительно производил впечатление вундеркинда.
Кроме того, у Шкловского была филологическая культура, отсутствовавшая у нас всех, за исключением, конечно, Хлебникова. Но высказывания „короля времени“ были, во-первых, аутентическими толкованиями, а не констатацией литературного феномена и его исследованием со стороны, и, во-вторых, носили слишком случайный и лирический характер. В лице Шкловского к нам приходила университетская – никогда не слишком молодая – наука» (Б. Лившиц. Полутораглазый стрелец).
«Задорнейший и талантливейший литературный критик нового Петербурга, пришедший на смену Чуковскому, настоящий литературный броневик, весь буйное пламя, острое филологическое остроумие и литературного темперамента на десятерых» (О. Мандельштам. Шуба).
«Кудрявый, быстроглазый и быстроговорливый. Войдя в комнату, он мгновенно начинал спорить – не с кем-нибудь одним, а как-то со всеми сразу. Слова выкрикивал скороговоркой; будто не каждое слово в отдельности, а целым слипшимся комом зараз» (Л. Чуковская. Памяти детства).
«Шкловский – человек „внезапный“, когда он начинает говорить, то мысль его взрывается, бросается с одного на другое толчками и скачками, иногда уходит совсем от затронутой темы и рождает новые. Он находит неожиданные ассоциации, будоражит вас все больше, волнуется сам, заинтересовывает, захватывает и уже не отпускает вашего внимания, пока не изложит исчерпывающе все свои соображения, отрывистые и не сразу понятные. Он показывает вам вещи, события, людей с никогда не найденной вами, а может, и не подозреваемой точки, иногда даже вверх ногами или с птичьего полета. И обычное, присмотревшееся, даже надоевшее вдруг преображается и получает новый смысл и новые качества. Изъяны и достоинства становятся более видными и понятными (или: как в бинокль – приближенными или удаленными).
Мне иногда кажется, что у меня делается одышка, как от бега или волнения, когда я его слушаю» (Вал. Ходасевич. Портреты словами).
«Шкловский не курит, почти никогда не пьет и, кажется, не испытывает потребности в развлечениях.
Борис Михайлович [Эйхенбаум. – Сост.] рассказывал мне характерный эпизод. После московского диспута Эйхенбаум отправился ночевать к Шкловскому. Пришел он в очень возбужденном состоянии: „А знаешь, Витя, хорошо бы выпить чего-нибудь“. – „Да у меня ничего нет. И поздно теперь. Вот приедешь в следующий раз – я тебе приготовлю горшок вина“.
После ужина Шкловский тотчас же начал укладываться спать. Борис Михайлович ахнул: „Помилуй, ведь мы еще не успели двух слов сказать“ (Эйхенбаум уезжал на другой день). – „Нет, ты как знаешь, а я должен выспаться“. И улегся.