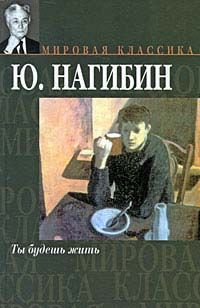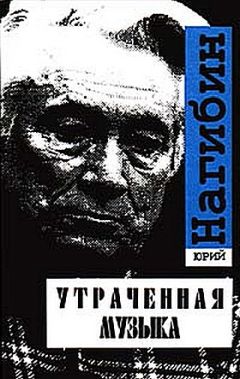Это удобное и легковесное представление о Тимке перестало меня удовлетворять, когда я сделался завсегдатаем теннисной площадки и увидел его в родной стихии. Двор лучше знает своих героев, чем случайная летняя компания. И вскоре я почувствовал, что Тимка здесь — фигура.
В чреде долгих лет эти подробности подзабылись, но в уголке памяти теплился образ незадачливого, нелепого, но чем-то симпатичного парня по кличке «Недоделанный». Почему-то я числил Тимку среди не вернувшихся из боя. Он казался нежизнеспособным и для мирных дней со своим символически слабым носом, готовым истечь субстанцией жизни от малейшего ушиба, с птичьей поступью, длинной и незащищенной шеей и тупостью точных, но беспобедных отмахов у белой черты корта.
Разговаривая с Олегом, я вспомнил в числе других и о Тимке.
— А что, Недоделанный тоже не пришел с войны?
Он пристально посмотрел на меня.
— Ты о ком?
— О Тимке Б-ве.
— А где его так называли?
— В нашей компании, в «Долгой Поляне».
— Любопытно… У нас его так не звали. Вообще-то наш двор обходился без кличек, но у Тимки была — Цыпа.
— Ты так говоришь, будто его звали «Принц» или «Викинг».
— Цыпа — это от Цапы, а Цапа — сокращенное Цапля. Помнишь, как он ходил, вернее, выступал: ноги прямые, носки врозь, шея вытянута, нос торчит. Вылитая цапля — самая гонористая птица.
— По-моему, журавль гонористее.
— Жаль, мы с тобой не посоветовались. Мы, видать, плохо журавлей знали. И прозвали — Цапля. А малыши Цеппелином величали.
— А какая у него судьба?
— Знаешь, у него действительно была судьба. А ведь она не у каждого бывает. У меня была жизнь, а была ли судьба — не уверен.
— А что такое — судьба?
— Понятия не имею! — Он засмеялся. — Слышал такой перл казенного велеречия: судьбоносный? Его очень любят высокопарные и низкопробные чиновники от искусства и литературы. Но это не по делу. Судьба в моем представлении жизнь с поворотами, смелыми решениями, с неожиданностями, провалами и подъемами, с приходом к чему-то, не заложенному заранее в ячейку твоего времени. У меня был один-единственный поворот в жизни, когда из радиожурналистики меня волей ленинского комсомола перебросили в разведку. Это было в стороне от моих планов и надежд, но отказаться я не мог. И оттрубил там, кстати, весьма неромантично, до пенсии. Я вышел в отставку на другой день после своего шестидесятилетия еще перспективным полковником, но генеральские лавры меня не манили. И теперь наслаждаюсь свободой ничегонеделания. Можно ли применить ко мне слово «судьба»? По-моему, нет.
— А у Цыпы?
— У Недоделанного?
Мы обменялись Тимкиными прозвищами. Я понял, что Олега оскорбило слово «недоделанный», которым я оговорился, и он нарочно стал его применять — с ироническим подтекстом в адрес мой и других недоумков, превративших гордого Цыпу-Цеппелина в дурачка. Теперь я тщетно пытался исправить свою ошибку.
— У него была жизнь с такими крутыми поворотами, с такими безднами и вершинами, что хватило бы на троих… в подъезде.
— Он что окончил?
— Ничего. Ушел из восьмого класса на завод.
— Почему?
— Он считал, что вуз ему не светит. Ты же знаешь, его дядю посадили в тридцать восьмом и тогда же расстреляли.
— А я был уверен, что писатель Б-ков его отец.
— Нет, брат отца. А родного отца он не помнил. Был отчим, но где-то потерялся к тому времени. Может, тоже посадили. Они все жили у Тимкиного дяди: Тимка, его мать и кровная сестра.
— А дядя был женат?
— Нет. Он считал их своей семьей. А донжуанствовал на стороне. Весьма энергично. Но в доме бабы не появлялись. Тут он был строг.
— Превосходный прозаик! Стихи были куда хуже.
— Ты будешь смеяться, я его не читал.
— Как это может быть?
— У нас в доме жили Платонов и Мандельштам, так я их тоже до войны не читал. Когда же начал читать всерьез, книжек Тимкиного дяди было не достать. Его хоть переиздали в безумии нынешних свобод?
— Кажется, что-то переиздали. Не уверен. У меня есть его старые издания.
— Вспомнил! Тимка пошел на завод, чтобы помогать матери. Она работала врачом в районной поликлинике. Сам понимаешь, какие там заработки.
— И где он работал?
— На «Серпе и молоте». Очень скоро получил первую рабочую квалификацию формовщика. У него были хорошие руки да и головешка варила, хотя он казался недоделанным. А потом он попал на Финскую войну, прошел ее благополучно, даже не обморозился. Вернулся на завод, ну, а вскоре — Отечественная. Его призвали буквально в первый день, но не на фронт, послали в школу радистов-разведчиков. Видать, не разобрали, что недоделанный.
— Может, хватит?
Олег сделал постное лицо.
— В этой школе Тимку постигла первая любовь. Будущий разведчик полюбил будущую разведчицу, а она полюбила его. Все время обучения в школе они были неразлучны. У Тимки впервые появились свободные деньги, которые он размашисто прокучивал с Нюсей в «Арагви», «Москве», «Коктейль-холле» — эти кабаки работали на всю железку в прифронтовом городе, каким Москва оставалась почти до самого конца сорок первого. И, похоже, опять стала сейчас. Во всяком случае, она производит куда более разрушенное и гибельное впечатление, чем в пору немецких бомбежек и военных очередей. А потом, как поется в песне: «Дан приказ: ему на запад, ей в другую сторону». Ну, не совсем в другую, тоже на запад, но на другой участок фронта. Их пути во время войны больше не пересеклись. Остались добрые воспоминания, остался вздох. Ни тому, ни другой не вспало на ум, что это вовсе не конец, а начало, вступление к тем отношениям, которые растянутся на всю жизнь.
Ни о чем таком не думали молодые разведчики, а занимались своей боевой работой, требующей большой собранности, сосредоточенности и самоотдачи. Ты помнишь Тимку. Вот уж кто не был Паганелем. Его самоуглубленность, таинственность, у меня почему-то всегда на языке это слово, когда о нем идет речь, не приводили к отрешенности, рассеянности. Делая что-либо, он целиком концентрировался на своем занятии, допуская в поле зрения лишь нужное для дела. В цеху он видел глину, форму и стержни. Играя в шахматы — доску и соперника, в теннисе — площадку, противника и судью. Когда менялись марками, видел марки, того, с кем шла мена, и окружающих, ибо по ним можно понять: надувают тебя или нет. Когда гоняли голубей, Тимка охватывал небо, мечущиеся стаи, ловушку с откидной дверцей и гулюкающую возле нее голубку-заманщицу. Надо полагать, умение видеть необходимое сослужило ему добрую службу на фронте. Он не давал себя отвлекать ложной тревогой, мнимыми опасностями, сомнительными преимуществами и прочим мусором неспокойного, разбросанного сознания. Считалось, что он удачлив. Нет, спокоен, остроглаз, расчетливо нетороплив.