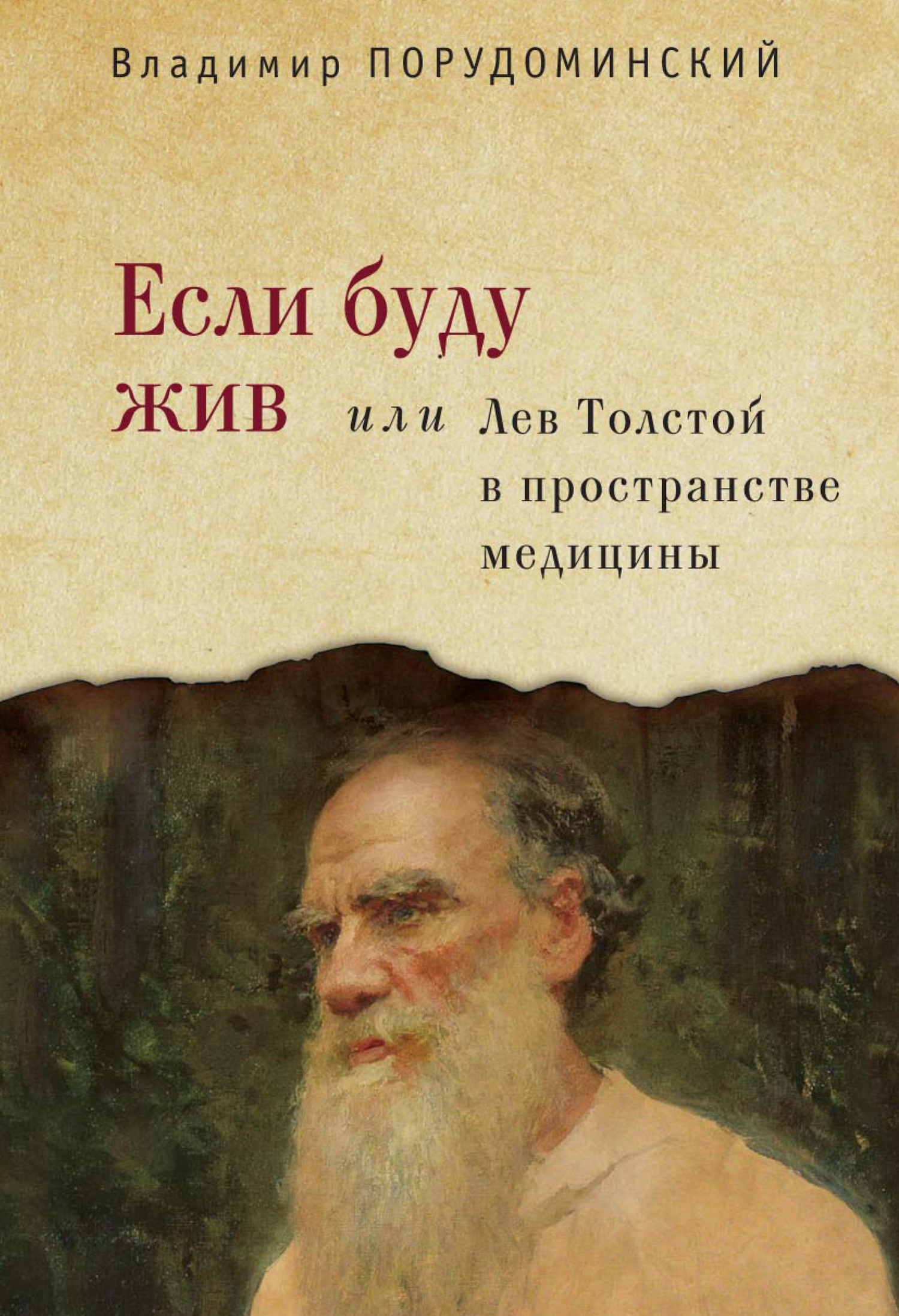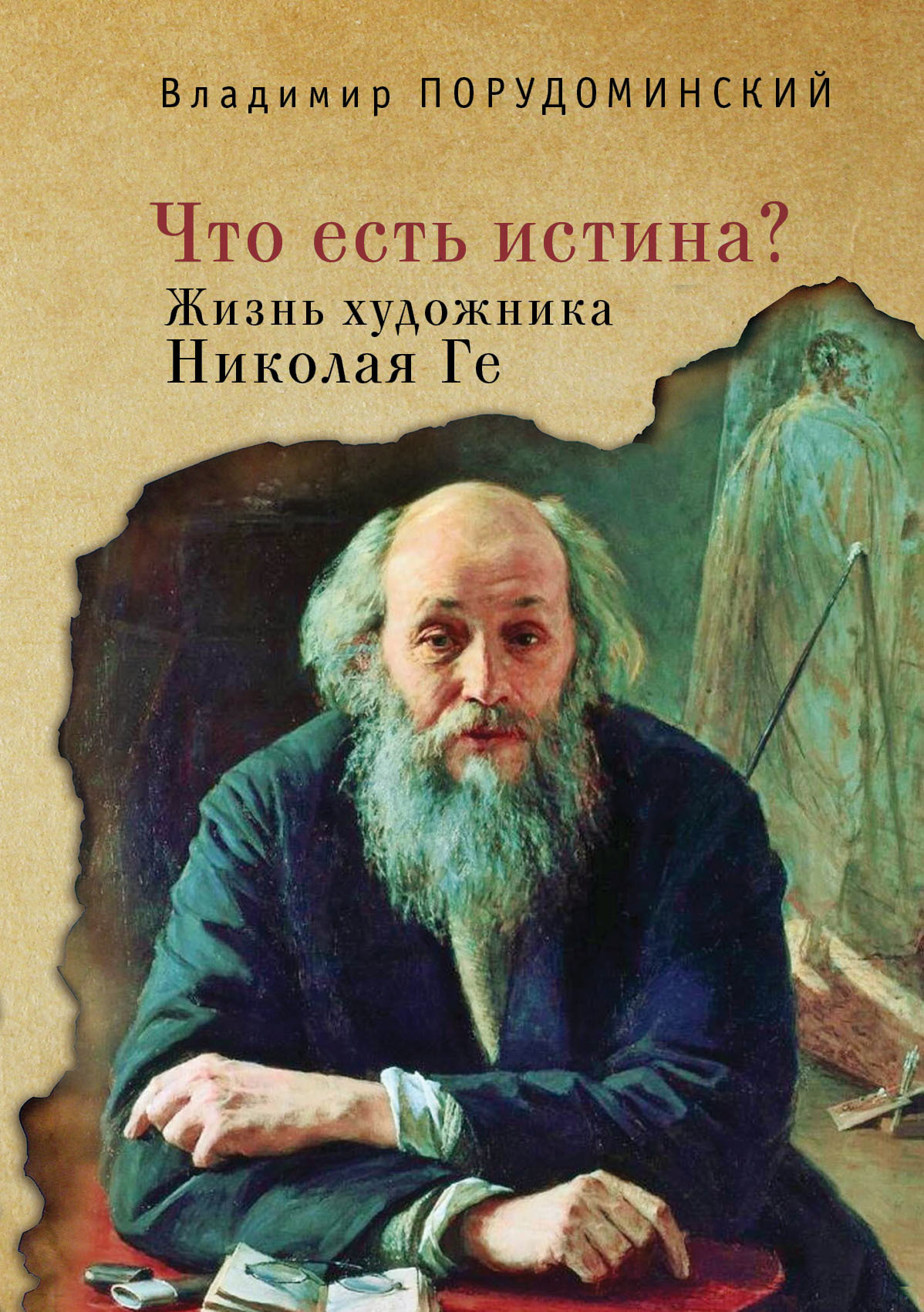нем покоющееся и для него поддерживаемое, сильно, очевидно отразилось на нем… А жизнь, устроенная, как часы, а неустанное наблюдение, а эти труды писаря, эта привычка ночной собаки, сторожа…» И продолжит удивленно: «Неужели такой великий человек, вечно стремящийся к справедливости и совершенствованию, не знал, не обонял, не сознавал всего этого, что и для простого смертного было очевидно, наглядно, так обязательно бросалось в глаза. Ужели ум проникновенный, огромной опытности, художественной наблюдательности проходил мимо всего этого?..»
А дальше профессор-медик попытается со своей, врачебной точки зрения ответить на вопрос, что побудило Толстого с шумом – подобным взорвавшейся бомбе – уйти из дома, заставить весь мир удивиться, ужаснуться, жадно искать причины этого взрыва.
«В продолжение всей почти своей жизни он одинаково воспитывал, обрабатывал дух и тело свое и при своей неутомимой энергии и дарованиях воспитал их одинаково сильно, крепко связал их и слил, – где кончалось тело и начинался дух – сказать невозможно… – напишет Снегирев. – Сильные натуры, скрепленные единством существа и существования, бегут из дома, из насиженного места умирать вдали от него, чтобы при разъединении духа и тела не мешали суетные предметы, предметы обиходности, привычности и привязанности, не затягивали этого процесса, всегда тяжкого и всегда сознательного. Это есть роды души, где вместо болей бывает тоска – самая мучительная боль, которая существует на свете – боль духа…»
И наконец – обоснование уже чисто медицинское: «Но теперь позвольте отойти от этого психологического объяснения, и нет ли физических причин. Ведь, несомненно, он погиб от крупозного воспаления легких, так мне говорил один из пользовавших его врачей… Эта инфекция иногда сопровождается даже маниакальными припадками. Не было ли бегство ночное совершено в одном из таких припадков? Ибо инфекция иногда проявляется только за несколько дней до болезни, т. е. организм ранее местного процесса уже отравлен. Поспешность и блуждание во время путешествия вполне согласуются с этим».
Надо полагать, письмо профессора Снегирева принесет Софье Андреевне, если не успокоение, то утешение. Но отдадим ей должное: после смерти Льва Николаевича она многое пересмотрит в отношении к прожитой жизни: «Я плохо жила с ним, и это меня мучает».
«Вот и план мой». 3 ноября 1910-го
К полуночи жар становится меньше, под утро температура вовсе нормальная, и – едва полегчало – врачи тотчас чувствуют: как ни ослаб Лев Николаевич за дни болезни, физических сил у него все еще удивительно много.
Два дня он ничего не ел (боялся изжоги) и не пил – теперь, чтобы восстановить потерянную жидкость, как объясняют ему врачи, пьет нарзан, просто воду. Дают ему и шампанское (как укрепляющее). Соглашается принять ревень, соду (от изжоги).
Душевно бодр и спокоен. Свое положение понимает, конечно, но, кажется, не теряет надежды, что и на этот раз выберется, продолжит свое путешествие в самому ему неведомую даль.
Когда входит к нему прибывший в Астапово Д.В. Никитин, встречает его радостно: «Ну, вот как хорошо, что приехали. А я вот умирать задумал, ну да что делать – всем нужно». И прибавляет, смеясь: «А может быть, и обману».
С Дмитрием Васильевичем беседует о медицине. Сперва, по обыкновению, критически: нигде столько не занимаются тем, чего не знают, как в медицине. Но тут же – положительное суждение (наверно, опыт переносимой нынешней болезни подсказывает): самое важное – уход; нужно думать об уходе, о гигиене для разных больных. Дмитрию Васильевичу, который последнее время много занимается бактериологией, советует перейти и клинику, работать с живыми людьми.
Осмотрев больного, доктор Никитин вместе с Маковицким составляют бюллетень: «У Льва Николаевича воспаление нижней доли левого легкого. Температура вчера вечером 39, 1, сегодня утром 36,7, вечером 37,7. Значительное ослабление сердечной деятельности. Пульс частый, с перебоями, печень увеличена. Аппетита нет. Полное сознание».
Толстой хочет занести кое-что в дневник. Кладет на колени толстую тетрадь в мягкой черной коленкоровой обложке, самопишущим пером заносит в нее последнюю запись:
«Ночь была тяжелая. Лежал в жару два дня. 2-го приехал Чертков. Говорят, что Софья Андреевна. В ночь приехал Сережа, очень тронул меня. Нынче, 3-го, Никитин, Таня, потом Гольденвейзер и Иван Иванович <Горбунов, последователь Толстого, руководитель издательства «Посредник»>. Вот и план мой. Fais ce que doit, adv…
И все это на благо и другим и, главное, мне».
Как понимать это: «Вот и план мой»? Ирония над собой? Сознание, что план бегства, новой жизни не будет исполнен, неисполним? Или весь смысл в продолжении, в поставленной следом начатой и оборванной любимой с юных лет французской пословице? То есть: вот и план мой – делай, что должно… Он не дописывает: и пусть будет, что будет, – в дни и часы, им проживаемые, смысл этих слов непостижимо огромен.
Его заботит, что из-за его болезни съезжаются близкие, друзья, он не хочет, чтобы из-за него люди тревожились, меняли свою жизнь, оставляли свои занятия. При этом он и представить себе не в силах, сколько народу собралось за стенами станционного здания, где задержался транзитом, меняя свой маршрут, он, пассажир поезда № 12.
Иван Иванович Горбунов говорит ему ободряюще:
– Мы с вами еще повоюем…
– Вы – да, я – нет, – подумав, отвечает Толстой.
Татьяна Львовна, беседуя с ним, втайне ждет, что он спросит о Софье Андреевне и, узнав, что она в Астапове, позовет ее. Но он не хочет, боится свидания. Неслучайно, заснув, повторяет в бреду: «Бежать, бежать…», или: «Будет преследовать, преследовать…» Просит занавесить окно: ему чудится лицо смотрящей с улицы женщины. Но, очнувшись, говорит дочери: «Многое падает на Соню, мы плохо распорядились». И, когда она от неожиданности переспрашивает, что он сказал, повторяет: «На Соню, на Соню многое падает».
Маковицкий сердито свидетельствует в своих записях: Софья Андреевна говорит осаждающим ее корреспондентам, будто Лев Толстой ушел из дому для рекламы, она даст пять тысяч сыщику, которые теперь будет постоянно следить за ним. Но сохранилась фотография – кадр из фильма, который уже снимают в Астапове предприимчивые кинохроникеры братья Пате: заснеженная улица, дом с наглухо запертой дверью, с улицы, всем телом припав к стене, заглядывает в окно, пытаясь – тщетно – разглядеть, что там внутри, одинокая женщина в длинном пальто и повязанном поверх шапки платке, – один из самых трагических документов толстовской биографии…
«Буду стараться». 4 ноября 1910-го
В четыре часа утра – t° 38,3. Очень беспокоен: много движется, поворачивается, водит руками по воздуху. Иногда неожиданно легко приподнимается, даже садится, – врачей удивляет легкость его движений: сколько в нем силы! Раскрывается и накрывается, снимает одеяло с груди и живота и снова натягивает. «Обирается», –