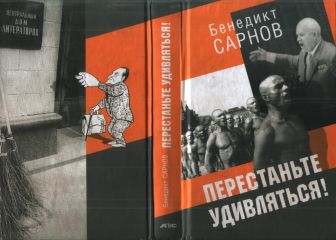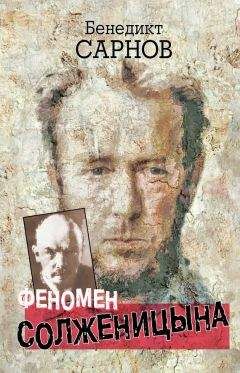Вдвоем мы поймали такси и отправились, продолжая в пути вести обычные наши разговоры. Точнее — один и тот же нескончаемый разговор на одну и ту же постоянную тему: какой гад Сталин, и какие отклонения от классического марксизма допустил Ленин. А когда подъехали к ЦДЛ, выяснилось, что тут пути наши на время должны разойтись. Для Михаила Александровича, как и для всех членов партии, собрание должно было начаться в четыре, а для нас, беспартийных, — в шесть, после того как партгруппа все обсудит и примет свои решения. Таков был всегдашний порядок, о котором я то ли не знал, то ли забыл.
Узнав об этом, я чертыхнулся, размышляя, как мне теперь быть. Ехать домой — не стоило: не успею приехать, как уже надо будет возвращаться. А болтаться два часа где-нибудь в буфете с местными завсегдатаями-алкашами тоже не больно хотелось.
— Но ведь у вас есть еще один, третий вариант, — тонко улыбнулся Михаил Александрович. — Вы можете присоединиться к нашей фракции.
— А вот это, — не без удовольствия ответил я, — невозможно. По причинам, которые мы с вами только что обсуждали.
Чем там кончились эти мои сомнения и где провел я эти злосчастные два часа, — сейчас уже не помню.
Помню только, что когда собрание наконец началось, одним из первых ораторов на трибуне оказался мой Михаил Александрович. И перед аудиторией, сверху донизу нашпигованной стукачами, он произнес речь, которую я — без ложной скромности — воспринял как не лишенный остроумия ответ на мое объяснение причин, по которым я не мог и не хотел присоединяться к «их фракции».
— Я, — сказал он, — как вы знаете, марксист. Сейчас это не модно, но тем не менее я марксист. Так вот, позвольте мне объяснить вам, почему, несмотря ни на что, я продолжаю оставаться марксистом.
И далее он кратко, но выразительно пересказал знаменитую новеллу Боккаччио, в которой повествуется о том, как почтенный торговец сукнами, проживавший в городе Париже, решил обратить в христианскую веру своего друга, еврея Авраама, тоже весьма богатого и почтенного купца. Еврей всячески этому противился, но его друг-христианин не щадил сил, чтобы добиться успеха.
Наконец еврей, побежденный настойчивостью своего друга, сдался. «Хорошо, — сказал он, — я готов сделаться христианином. Но сперва я отправлюсь в Рим, дабы там увидать того, кого ты называешь наместником Бога на земле, увидать его нравы и образ жизни, а также его братьев кардиналов. Если, поглядев на них, я смогу окончательно убедиться в преимуществах твоей веры над моей, — приму крещение. А коли нет, как был, так и останусь евреем».
Услышав такой ответ, купец-христианин решил, что все его труды пошли прахом: кто же поверит в истинность христианской веры, увидав, как живут высшие иеарархи Римской католической церкви, как глубоко погрязли они в пьянстве, обжорстве, роскоши и разврате.
Каково же было его изумление, когда его друг-еврей, вернувшись из Рима, объявил, что согласен. Да, побывав в Ватикане, он окончательно убедился, что должен принять христианство. Если несмотря на то, что вытворяют те, кому заповедано быть главными хранителями заветов Христа, христианская вера не только не рушится, но даже с каждым днем обретает все новых и новых адептов и последователей, — значит, это действительно ИСТИННАЯ ВЕРА.
Пересказав эту замечательную историю, Михаил Александрович, весьма собою довольный, повторил:
— Теперь, я надеюсь, вы поняли, почему я остаюсь марксистом.
Почти все наши диссиденты, которых насильно выпихнули из страны, уезжали по израильской визе. Даже упрямый Андрей Амальрик, долго упиравшийся, доказывая, что никакого отношения к евреям не имеет, а жена его и вовсе мусульманка, вынужден был в конце концов сдаться и эмигрировать через Израиль по липовым документам о «воссоединении семей».
По этому поводу в нашей среде любили рассказывать такой анекдот.
Иисус и двенадцать апостолов идут по воде. Но один все время проваливается на глубину и просит — по цепочке — передать равви, что вода его не держит. Равви по цепочке отвечает: «Пусть молится!» Но злосчастный апостол продолжает взывать к Учителю и в какой-то момент чуть ли не вопит, что вот-вот пойдет ко дну и утонет. И тут Иисус не выдерживает и, выпадая из роли, раздраженно передает по той же цепочке: «Скажите ему, пусть не выё..вается и, как все, идет по камням!»
Но шутки шутками, а упорный Анатолий Марченко, не поддавшийся никаким уговорам и твердо отказавшийся уезжать по израильской визе, так никуда и не уехал и умер в тюремной больнице.
Так ли, сяк ли, но все диссиденты уже уехали, и только один Войнович продолжал упираться и «идти по камням» решительно отказывался. Да ему этого, кажется, и не предлагали: уж больно хотели, чтобы он наконец умотал — хоть куда, лишь бы покинул пределы родины.
Кончилось дело тем, что уехал он в Германию и по германской визе.
Какую-то роль тут сыграло то, что он в то время уже был почетным членом Баварской академии искусств и по этой причине посильную помощь ему оказывало Германское посольство.
В это время и стал появляться в войновичевском доме очень милый господин — советник Германского посольства граф Грюндель.
И вот сидим мы однажды втроем — Войнович, граф Грюндель и я и ведем милую светскую беседу. Сейчас уже не помню, как и почему, но вдруг всплыла в этом разговоре тема Нюрнбергского процесса. И тут Грюндель сказал:
— Это был, я думаю, единственный случай во всей мировой истории, когда победители судили побежденных.
Судя по тону, каким была произнесена эта фраза, он ждал от нас сочувственного согласия. Но — не дождался.
Войнович просто побелел от бешенства. И сказал:
— Но судили ведь их не за то, что они проиграли войну, а за то, что делали абажуры из человеческой кожи!
Я испугался, что сейчас случится, как сказано у Маяковского, «что-то вроде драки или ссоры», и чтобы пресечь намечавшийся конфликт, вмешался:
— Господин Грюндель, я думаю, имел в виду, что Сталин был ничуть не лучше Гитлера, Геринга и Риббентропа, которые к тому же одно время были его союзниками. Так что вряд ли у него было моральное право на участие в этом процессе.
— Да, да, — поспешил согласиться со мной господин советник, — именно это я и хотел сказать.
Плохой фильм «Семья Оппенгейм»
Фильм этот — по знаменитому тогда роману Лиона Фейхтвангера — был сделан у нас в середине 30-х годов. А ровно шестьдесят лет спустя пригласили меня на телевидение: принять участие в беседе — в прямом эфире — об этом старом фильме.