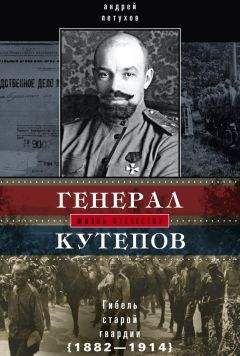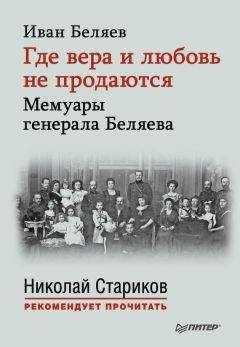— Это совершенно не в моих вкусах, — отвечал я. — Но ради того, чтоб не разлучаться с вами — в вас я вижу единственного человека, способного спасти дело, — я соглашаюсь.
— Я буду иметь ваше желание в виду при последующей конъюнктуре, — отвечал Врангель. — А пока что зайдите к Юзефовичу, он только что приехал.
Юзефович сидел в салоне, где два длинные стола, накрытые роскошной камчатной скатертью, ожидали Врангеля и его новый штаб. Перед ним стояла бутылка Моздокского и недолитый стакан красного вина.
— Очень рад, очень рад, — любезно встретил он меня. — Садитесь, обменяемся мыслями… Наконец-то, я чувствую себя человеком! Представьте себе, целый год я был без должности! Знаете, если б теперь в мои руки попал большевистский банк, первое, что я сделал бы, отсчитал бы себе содержание за все потерянные двенадцать месяцев.
У меня был подобный случай. Но из двух миллионов золотом (а может, там было и больше) я не взял себе ни червонца, а передал все под печатями и замками генералу Деникину.
— Теперь поезжайте, голубчик, в Екатеринодар с экстренным вагоном и приступайте там к формированию снабжения.
— Все, что ни посылает мне Господь, всегда служило мне во благо, — размышлял я, садясь в набитый пассажирами крошечный вагончик, прицепленный к тендеру.
Генерал! Я видела вас, когда вы гнались за нами под Константиновкой… Вот-вот, казалось мне, вы отобьете меня от красных!
Это была жена Мамукова. Теперь большевики при отступлении оставили ее в тифу и она снова попала в наши руки…
Дело свое в Екатеринодаре я сделал на «ять». Перед отъездом я распростился со своими офицерами. Никто из них не пожелал оставаться, все ушли в строй: Чернышев и Холмогоров — в свои батареи. Месяца два назад присоединившийся ко мне Ташков — также в одну из батарей 1 Конного корпуса. Андровичу мы устроили командировку в Константинополь, где жил его отец, «за приобретением пулеметных принадлежностей». Он был послан мною дпя связи с кавалерией и вернулся обезумевшим от того, что видел.
При нем захватили пленных. К ним подъехал Бабиев.
— Иногородние Кубанской области, шаг вперед! — скомандовал он.
Вышло шестьдесят человек.
— Так это вы — змея, отогретая на казачьей груди? — закричал он. — Покажите им, как рубят казаки!
Несчастных заперли в сарай, и началась рубка…
Андрович вернулся совсем больной. Я боялся, что он сойдет с ума.
Возиться с ним более было мне невозможно.
— Пошлем его нашим представителем в Константинополь! — острил Ташков. Мы так и сделали.
В восемь дней я закончил свои работы. Перед отъездом я снова зашел к моему старому другу и товарищу по корпусу (после 3-го класса он перешел в Пажеский), который занимал ответственный пост начальника снабжения армии.
— Но я не понимаю, — сказал мне «Карабан» (это было прозвище Энгельке в кадетском обиходе), — для кого, собственно говоря, ты ломаешь копья. Вот взгляни на эту телеграмму.
«Ходатайствую о назначении начснабом Кавармии лично известного мне генерала Деева — Беляев прекрасный организатор, но не обладает достаточным опытом. Юзефович».
— Я работаю не для себя, — возразил я, возвращая телеграмму. — Я работаю для России…
Мне кажется, меня лихорадило… В ушах звенело: «При последующей конъюнктуре…»
У моих дверей стояло пять черкесов… Это были те самые, которых я обласкал в Темиргоевской.
— Мы привезли вам приговор об избрании вас почетным стариком Хатажукая и просьбу приехать к нам. Мы готовим тебе встречу и без тебя не хотим возвращаться.
Мы с Алечкой угостили их на славу. Но отъезд пришлось отложить… Черкесы еще не ушли, как я почувствовал себя дурно. Прощаясь с ними, я должен был прислониться к стене, чтоб не упасть. Меня трясло, как в лихорадке. В постели я смерил температуру -40,5°! Я лишился языка — это был сыпной тиф.
За несколько дней до описываемых мною событий я был бесконечно обрадован неожиданным появлением моего любимого брата Мишуши со всей его семьей. Им удалось своевременно вырваться из Петербурга и провести самые тяжелые моменты революции в Сумах. С уходом немцев они решили двигаться дальше и теперь приехали в Екатеринодар, куда, в сущности, стекалось почти все, что только могло бежать от красного террора.
Я уже давно не видался с ним. Последние события, видимо, сильно подействовали на него, он стал сдавать. Всегда такой спокойный и уравновешенный, он обнаружил повышенную нервность и был подавлен заботами о завтрашнем дне. Близкий товарищ Романовского по бригаде, он не мог добиться от него иного, как назначения в резерв чинов и маленькой комнатки — по счастью, в доме той самой добрейшей вдовы, которая раньше так гостеприимно принимала милого «Моржика» и его офицеров и сохранила с нами самые сердечные отношения. Наташа, такая же кипучая и экспансивная, как всегда, сохранила свою прежнюю энергию, но Люр и Сергун, хотя уже подросли, не могли еще служить опорой родителям. С ними приехал только что кончивший Сумской корпус Павлик Кагадеев, сын их гостеприимных хозяев, ставший для них родным членом их семьи. Для нас этот приезд оказался как нельзя более своевременным…
Все, что случилось со мной после моего заболевания, я помню лишь урывками. Временами я впадал в забытье, временами, на момент, приходил в себя.
— Ты не испугаешься, если мы повезем тебя в больницу… на катафалке? — спросил меня Мишуша.
— Но мне все было безразлично — лишь бы скорее… Вероятно, это был единственный в своем роде выезд.
По углам платформы, вместо ангелов, сидели моя верная жена и мой неоцененный Мишуша. Человек на козлах изо всех сил подгонял клячу, очевидно, привыкшую таскаться на кладбище только шагом. Временами «покойник» приходил в себя и неистово ругал возницу… Наконец, мы очутились у ворот какого-то мрачного здания, меня сняли с катафалка и сразу же опустили в холодную ванну. Только тогда я понял, что происходит со мною.
Потом я снова впал в беспамятство. Временами меня мучил кошмар, я попадал в бездонный колодец… Через меня проходили эвакуируемые войска — пехота, кавалерия, артиллерия… даже санитарная часть. Все оставляли грязные следы на моей кровати… Войска — ну, понимаю… Но даже сестры милосердия! Это уже невыносимо… Потом меня за что-то ругали, клали на чистое белье, но эвакуация начиналась снова.
Однажды, когда я очнулся, в комнате никого не было. Полумрак, в противоположном углу я заметил нечто, что перевернуло всю мою душу. Там стояла низенькая кровать, а на ней лежало родное мое стеганое одеяло с зеленой шелковой покрышкой и на розовом подбое…