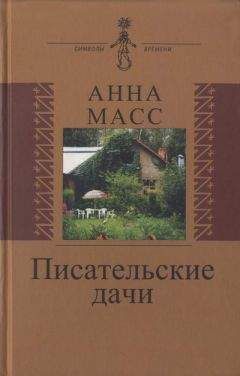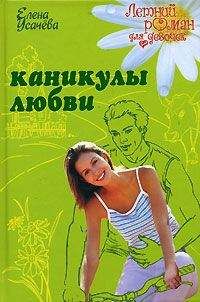Я брела к метро, и вся моя философия рушилась от обиды, как поросячий домик из соломы. Исчезла перспектива увидеть новую книжку, которую я уже себе представляла: толстенькую, с картинками и, главное, неплохую книжку, интересную.
А дома — дружно, тепло, я оттаиваю и думаю: что такое непринятая рукопись по сравнению с семейным счастьем?
Оглядываюсь на своих знакомых, и ни у кого не нахожу подобной гармонии отношений. Нет, есть, безусловно, но мало, и они не кричат о ней, потому что это было бы бестактно по отношению к большинству. И я не кричу. Но самой себе-то я могу это сказать.
Иногда я думаю: что, если бы мне достался другой вариант судьбы? Ради интереса я хотела бы испытать несколько несбывшихся.
Например, вариант знаменитой писательницы. А что? В конце концов, если чего-нибудь очень сильно хочешь и добиваешься, то добьешься. Это я знаю даже по собственному весьма небогатому опыту.
Хотела бы я, чтобы меня узнавали, показывали по телевизору, брали интервью и просили автограф? С некоторой долей сомнения скажу — нет. Здесь, кроме всего прочего, нужны особые свойства характера, которые у меня отсутствуют: высокая самооценка, напористость, честолюбие, тщеславие, умение войти в контакт с нужными людьми. Мне больше по характеру жить тихо и в серединке, никого не напрягая и самой не напрягаясь. Гоняться за успехом — только себя унижать. Конечно, мне бы хотелось написать что-нибудь такое, что стало бы литературным событием, чтобы обо мне заговорили. Но не написала. Таланта не хватило.
Еще один несбывшийся вариант судьбы — остаться женой добившегося известности и достатка нелюбимого мужа-поэта.
Скорее всего, я постепенно прогнулась бы под него, приняла правила его игры и со временем вполне могла бы превратиться в самодовольную, высокомерную светскую хамку, которых насмотрелась во множестве и про которых знаю точно: они ничуть не счастливее и не свободнее «простых», не высокопоставленных жен, только злее и трусливее, потому что боятся потерять то, что имеют.
Третий вариант — большой старинный дом с колоннами на Зубовской, рядом с книжным магазином «Прогресс». Году в 1958-м меня привел в этот дом студент-биолог, кажется, его звали Саша. Или Юра. У него были относительно меня серьезные намерения, и он решил познакомить меня со своей мамой, профессором энтомологом. (Одна стена большой комнаты была увешана застекленными коробками с мертвыми бабочками сказочной красоты.) Я не знала, что пришла на смотрины, вела себя, может быть, слишком развязно, и маме не понравилась. Это еще не решило бы дела, но сам юноша мне не очень нравился — худосочностью, застенчивой настырностью. И дело рассосалось.
А если бы… Кто знает. Говорили, у него выдающиеся способности. Может, он стал знаменитым ученым, и жила бы я теперь где-нибудь в Нью-Йорке или Бостоне.
Но была бы уже не я.
Из всех вариантов (думаю я теперь) я бы выбрала свой, состоявшийся.
Ни знаменитость, ни богатство сами по себе не делают человека счастливым, а у меня с годами все чаще возникает сознание того, что я счастлива. Может быть, дело в мироощущении. В годы отрочества и юности я была так закомплексована, так убеждена в том, что некрасива, никогда никому не смогу понравиться, не достигну ничего в жизни, что теперь, обретя хорошую, полноценную семью и достигнув — не Бог весть чего, но все-таки чего-то, — я благодарна судьбе и даже удивляюсь, что она оказалась так щедра ко мне. Другие многого ждут, а осуществляется не многое, и они не удовлетворены, разочарованны, несчастны. А я вообще ничего не ждала, и вдруг мне такое. Ну как не благодарить судьбу за то, что я встретила Витю, с которым мне всю жизнь легко, свободно и надежно, за то, что он подарил мне интересную жизнь, за то, что у нас хорошие дети.
Перед этой, не знаю за что дарованной мне удачей, меркнет то, что я не стала «явлением в литературе».
Поселок, 70-е годы. Закат
Семидесятые годы прошлись по поселку «Советский писатель» смертельной косой.
Открыл этот грустный счет в августе семидесятого Николай Робертович Эрдман.
В июле семьдесят первого умер Геннадий Семенович Фиш.
В ноябре скончался кинорежиссер Михаил Ильич Ромм.
В мае семьдесят второго умер Виктор Юзефович Драгунский.
В декабре семьдесят первого не стало Александра Трифоновича Твардовского.
В июне семьдесят первого ему исполнилось шестьдесят. После разгрома «Нового мира» он перенес инсульт, речь не восстановилась, правая часть тела не действовала. Последнее свое лето он жил на даче. За ним ухаживали жена Мария Илларионовна и дочки, Оля и Валя. В день его юбилея к ним на дачу не иссякал ручеек желающих поздравить поэта и, может быть, в последний раз увидеть его живого. Потому что уже прошел слух, что его доканывает рак.
Мы с отцом тоже пошли его навестить. Я нарвала букет пионов. Мы подошли к дому пять по Средней аллее. Дом стоял в глубине участка, к нему вела дорожка из плиток. Было часов одиннадцать утра. Мария Илларионовна пригласила нас в большую комнату. Александр Трифонович сидел в кресле у окна. Редкие седые волосы аккуратно зачесаны, клетчатая летняя рубашка застегнута на все пуговицы до самого горла. Голубые глаза смотрели приветливо. Уголок рта на мучнисто-бледном, одутловатом лице чуть-чуть дрогнул, то ли в улыбке, то ли в попытке что-то сказать. Он протянул нам левую руку, и мы с отцом ее пожали. Мария Илларионовна, небольшого роста, подвижная, с узлом густых седеющих волос на затылке, несуетливо хлопотала: поставила цветы в кувшин, пододвинула нам стулья, поправила мужу свисшую правую руку, принесла нам с отцом по стакану холодного компота и поставила на столик у кресла, заговорила с нами просто и о простом — спросила о моих детях, о том, хорошо ли у нас цвели этой весной яблони. Она адресовалась и к нам, и одновременно к Александру Трифоновичу, как бы включая его в этот легкий, незначащий разговор. Я что-то отвечала. Не о том же нам было говорить при больном человеке, как партийная власть расправилась с ним, довела до нынешнего состояния. Все это уже свершилось и не требовало комментариев.
Александр Трифонович благожелательно слушал и, казалось, глазами принимал участие в разговоре.
Было тягостно видеть этого еще недавно сильного, властного, полного жизни человека в нынешнем состоянии и поддерживать никому, в общем, не нужную беседу.
Просидев минут пятнадцать, мы встали. Он снова протянул нам по очереди левую руку, и я до сих пор помню слабое прощальное пожатие его мягкой, сухой ладони.