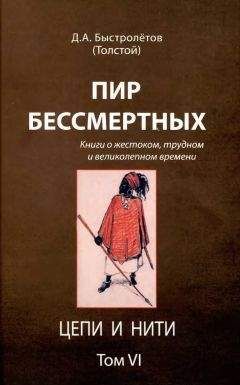— Мы любим и уважаем Феликса, — сказал я, — но нужно быть еще и разумным. Помните Сидоренко? Тот бы в порошок стер каждого, уличенного в воровстве, а за антисоветское словцо снес бы голову. Сидоренко был горячим человеком, революционером и ленинцем, понимаете, Гамид? А другие начальники — сталинцы, холодные, расчетливые люди. Превыше всего они берегут свое положение в партии, которая их кормит, а вы подняли руки на то, что их в партии удерживает — на возможность использовать свое положение в личных интересах. Это было безумием, Гамид!
— Но честным безумием, доктор.
— Да, конечно. А результаты? Сидоренко мешал больше, чем вы оба, и старику дали срок. Он теперь доходит до социализма вместе с нами; вы — люди помельче, вас и ударили не так больно. Но воровства не стало меньше, даже если бы и я сидел сейчас в каторжной зоне!
— Вы меня не переубедите. Идемте к проволоке, может, увидим Феликса.
Мы стали за амбулаторией так, чтобы ближайшие стрелки на вышках нас не видели. Утро было душное, дождь перестал и в толпе вышедших на воздух каторжников мы заметили Беднажа.
— Фелику! Пуйте сем! — закричал я в трубочку из собственных ладоней.
Потом мы минут десять смотрели друг на друга из-за густых рядов колючей проволоки. Феликс кричать уже не мог, он только улыбался и прикладывал руки к сердцу. Потом вдруг повернулся и побрел прочь.
— Как ему живется? — спросил Раджабов.
— Плохо. Анечка там бывает часто.
— Как так?!
— Она работает в экономическом отделе штаба. Ходит туда за цифрами для сводок.
— Феликс там очень одинок, — сказала Анечка. — Его мучает безделье. И несправедливость. И то, что неизвестно будущее: настоящим каторжанам спокойнее.
Анечка помолчала.
— Феликса очень угнетает ежедневный приход к проволоке пана Мацюшки. Вы его не знаете, Гамид? Это бывший польский консул, как и Беднаж, но Феликс не националист, он просто хороший человек и друг больных всех национальностей. Пан Мацюшка носит на груди большое распятие и нас всех ненавидит по-звериному. В штабе ведет себя как постыдный подхалим. Это скрытый вредитель и наш заклятый враг, готовый на все.
— А чего ему надо от Феликса?
— Феликса за дружеские чувства к русским он считает предателем Польши. Пан Мацюшка ходит, чтобы сказать, что в случае их освобождения он собственноручно повесит Феликса на первой польской березе.
— Мерзавец! Неужели действительно он говорит это умирающему?
— Да. А когда видит только издали, то показывает знаками.
— Хам! Нет, какой же все-таки мерзавец! Я не могу этого слышать! Уйдемте отсюда.
Мы пошли прочь.
— Черт, я расстроился вконец, — сказал Раджабов. — Иду купаться и спать. Вдруг почувствовал усталость. Всего наилучшего!
— Вот еще один лагерный фельдшер. Но как он не похож на тех трех! — сказал я, глядя Раджабову вслед.
6В этом году у меня начали повторяться воспаления легких. За лето я перенес уже два. Потом стало болеть горло. Встревоженная Анечка поговорила в каторжной зоне с профессором Чеканом, он был фтизиатром. Чекан прислал какую-то масляную смесь вместе с указанием, как ее вливать мне в горло. Мы зашли в амбулаторию, Севочка подогрел масло, и Анечка ловко влила мне его так, чтобы стенки горла и гортани получили теплое орошение.
— Что слышно в зоне? — спросил Андреев.
— Начальство — ни гу-гу! — ответила Анечка.
— Что-то готовит! — кивнул Севочка.
Мы стояли на пороге амбулатории. Выглянуло солнце. Всюду толпились праздные люди.
— Куда же нам пойти?
— За больницу № 3.
— А там что?
— Богослужение! Посмотрим на еще одно лагерное представление…
Водоразборная будка помещалась против бани, как раз за зданием ветеринарной станции. Проходя мимо, мы не удержались и остановились около белого, как лунь, старичка со смуглым лицом и большими черными глазами, уже подернутыми старческой мутноватой голубизной. Штаны у него были завернуты до колен, босые ноги измазаны грязью. Если Анечка была наследницей Чемберлена по оглобле сепаратора на молочном заводе, то отец Иона, священник из Бессарабии, — унаследовал от покойной лошадки ее основную профессию: накинув лямку на шею, он с утра до вечера таскал по зоне бочку с питьевой водой.
— Здравствуйте, паринтеле! Вы хотя бы заглянули ко мне на прием. В такую грязь бочку могут таскать и люди помоложе! Заходите сегодня же, я запишу вас на завтра.
Старик вытер потное лицо.
— Благодарствую. Да, в грязь бочка кажется вдвое тяжелее. Но я не зайду за освобождением.
— Почему?
— Эх, молодой человек, молодой человек! Да ведь вся наша жизнь в руке божьей. Как вы этого не понимаете? И увиливать здесь нечего — увильнешь от бочки с водой, бог пошлет воз с камнями. Раз мне ниспослано испытание, значит я его заслужил и должен терпеть! Во всей нашей жизни есть большой внутренний нравственный смысл, и сам принижать себя я не могу!
Иона говорил медленно, отсутствие зубов мешало выговаривать слова. Он был очень стар. Однако бодро улыбнулся.
— Поить водичкой алчущих — это прекрасно, доктор!
Я не нашел что ответить. Анечка сказала:
— Раньше бочку возил Чемберлен.
Старик посмотрел куда-то вдаль черными глазами с мутноватой синевой. И вдруг тряхнул головой, словно вспомнил что-то радостное.
— Когда я учился в Петербургской духовной академии, слава Чемберлена гремела. Гордый был человек, могущественный, государственный. Но бог захотел — и он был впряжен в лагерную бочку! Конечно, большевики помогли — сила бесовская весьма велика. Но вы поняли смысл сего? Чемберлен очистился от земной гордыни и предстал перед Судом божьим в образе скромного труженика! Впрочем, большевики, если возьмутся как следует, то доконают кого хотите!
Иона вдруг нахмурился. Сказал с сердцем, перекидывая через тощую шею и грудь мокрую лямку:
— А вы говорите — освобождение! Отойдите от меня, искуситель! Не лишайте меня пути господня!
Паринтэ Иона натужился, бочка, расплескивая воду, покатилась по лужам.
— Он меня не понял, — задумчиво проговорила Анечка. — Бедный отец Иона!
Я вздохнул и стал делать закрутку.
— А может быть, он самый счастливый из всех нас: денно и нощно наши сердца жжет огонь протеста против несправедливого осуждения и жажда свободы. А у него никаких таких мук нет: все в руке божьей, и крышка! Даже бочку и лямку в восемьдесят пять лет он приемлет с радостью, не говоря уже о сроке в двадцать пят лет. Я ему завидую, Анечка!
Мы медленно брели по мокрой траве. Кругом сновали люди, взяться за руки было нельзя, я просто незаметно держал ее маленький, мягкий пальчик.