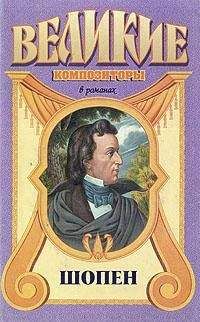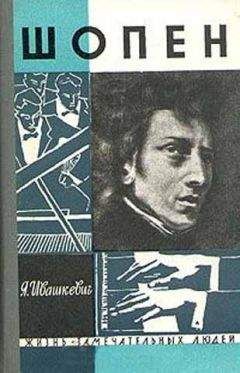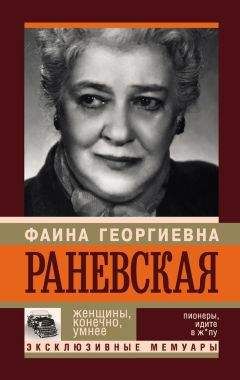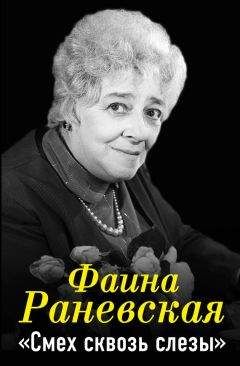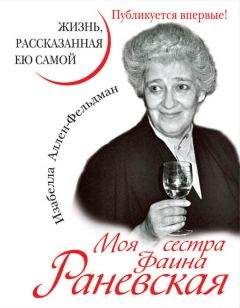А в графине все уже утомляло его, даже ее хорошие качества.
Теперь он стоял на перепутье. Он не мог любить ее больше. Она была и умна и развита и помогла ему завершить образование, но он слишком хорошо узнал ее – вот в чем дело! Он убедился, что в ней нет простого, душевного, человеческого тепла. Каждый ее поступок, слово, жест предназначались для чужих глаз и ушей. Она не любила оставаться наедине с собой, потому что некому было любоваться ею. Даже свой уход к юноше артисту она постаралась сделать предметом обсуждения всего Парижа. Ей мало было обыкновенного злословия, тщеславие не получало пищи: подобные «героические» поступки совершались и другими женщинами, это входило в моду после романов Жорж Санд. Поэтому графиня д'Агу твердила о своей жертве всем знакомым и больше всех Листу. К тому же она была злопамятна, и он это знал.
Но как она ни связала его тремя детьми, которых он очень любит, – дальнейший путь вместе невозможен! Всю жизнь надо перевернуть и начать сначала!
А дружба с Шопеном при всех шероховатостях, при длительных расставаниях и расхождениях, при несходстве взглядов и характеров оставалась цельной и прочной.
Вернувшись в Париж в сорок четвертом году, Лист видел Шопена и слушал фа-минорную фантазию. Его дельные профессиональные высказывания, разумеется, не выражали и десятой доли его восхищения. А произнесенная от всей души, горячая похвала прозвучала, как во всех таких случаях, ложнопатетически:
– В отличие от Колумба, – сказал Лист, – ты открываешь не одну землю, а многие!
– Это ты можешь сказать и о себе, – ответил Фридерик.
Он очень осунулся за последний год. Теперь Лист не мог бы сказать, что не заметил в нем перемены. Здоровье Шопена слабело, силы покидали его.
– Я думаю, ты ошибаешься на мой счет! – сказал он. – Я живу здесь почти безвыездно, желчный, худой, пропитанный скепсисом, вечный парижский житель! Что нового могу я открыть тебе?
– То, чего тебе недостает, – сказал Лист, – ты возьмешь и создашь сам. Это в твоей власти. Ведь глухой Бетховен сочинял прекрасную музыку!
– Ах, в этом смысле! – усмехнулся Фридерик. – Недурная аналогия! Но скажи, пожалуйста: что ему оставалось делать?
В сентябре сорок четвертого года приехавший в Париж из Варшавы друг Енджеевичей, географ Шиманьский, посетил Шопена в первый день своего приезда. Семья Шопенов еще не оправилась от тяжкого горя– смерти отца. Фридерик получил длинное письмо от своего шурина Антося Барциньского, полное утешений и просьб поберечь себя. Пани Юстына и в особенности Людвика просили Шиманьского как можно осторожнее рассказать Фридерику о последних днях пана Миколая и о состоянии семьи.
Поэтому пан Шиманьский описал все приблизительно так, как было в письме Антона. Умирание отца было актом умиротворенности и просветления. Семидесятичетырехлетний старец благословлял семью, посылал привет далекому сыну и выражал спокойное удовлетворение своей жизнью.
В действительности это происходило иначе. Страдания пана Миколая были ужасны. И не столько физические, сколько нравственные, ибо он терзался какой-то глубокой, непонятной для родных мукой, похожей на сознание вины. Он все время говорил не с теми, кто бодрствовал у его постели, а с дочерью Эмилией, умершей семнадцать лет тому назад, и с сыном Фридериком, которого тоже почему-то считал умершим… Плача, он просил у них прощения за что-то и умолял не оставлять его одного. Лишь изредка приходя в себя и узнавая жену и дочерей, он усылал их спать, уверяя, что ему гораздо лучше. Он не сводил глаз с портрета Фридерика, который велел поставить возле себя, а в часы бреда обращался к какому-то невидимому духу с проклятиями за то, что тот навеки разлучил его с любимыми детьми.
Шопен не очень верил благостным описаниям гостя, но был сердечно рад ему, как и всякому посланцу с родины. После смерти Яся, происшедшей два года назад, он уже ниоткуда не ждал хороших вестей. С Ясем умерла его молодость, и берег родины отодвинулся еще дальше. Живного тоже не было на свете… Тоска долго не покидала Фридерика, и к тому времени, как пришло известие Людвики о кончине отца и письмо Антося, все мысли Шопена, весь его душевный строй был подготовлен к роковым, скорбным жизненным переменам.
И все же известие Людвики потрясло его, он заболел нервным расстройством, и Авроре с трудом удалось немного его успокоить.
Шиманьский, помнивший Фридерика юношей, теперь почти не узнавал его. Шопен выглядел моложе своих тридцати четырех лет, но это была не молодость, а какая-то искусственная, болезненная моложавость. По крайней мере таково было первое впечатление. Шопен был очень худ, бледен, коричневый оттенок на скулах только оттенял эту бледность, он казался меньше ростом, чем был в юности, и в глазах у него появилось тревожное, беспокойное выражение. Они уже не были прозрачными, не плавились, не голубели, они стали совсем темными, и это придавало взгляду какую-то жесткость. Но, проведя весь день с Шопеном, который не отпускал гостя от себя, Шиманьский немного отдохнул от первого неприятного чувства. Шопен оживился. Он сводил Шиманьского в Лувр, пообедал с ним в лучшем ресторане, а потом привел к себе, пообещав сыграть свой последний полонез. Они накупили в магазинах всевозможные безделушки-памятки. Шопен перебирал их с любовью: они предназначались для матери и сестер. Его расспросам не было конца. Казалось, он хочет вознаградить себя за долгое молчание.
«И все же он сильно изменился, – думал Шиманьский. – Неужели и в музыке также?»
Шопен познакомил его с Авророй и Соланж. Мориса не было дома. Шиманьского немного смутила преждевременно зрелая, дерзкая красота шестнадцатилетней дочери Жорж Санд и ее надменно-самоуверенная манера. Типичная девушка Второй империи! Аврора показалась ему озабоченной и утомленной. Шопен брал аккорды и не начинал играть. Соланж несколько раз зевнула в руку, потом оказала матери, что ей нужно дочитать свой урок. Аврора кивнула, Соланж сделала старательный реверанс и ушла.
Шопен начал свой полонез фа-диэз-минор, и гость мог убедиться, что его опасения насчет музыки Фридерика были неосновательны. Это был самый мрачный из всех известных ему полонезов, его можно было бы назвать «погребальным шествием». В нем была неизмеримая скорбь, но не было надлома. Напротив, чувствовалось, что многих и многих эта музыка потрясет до глубины души, потрясет и – поднимет!
В жизни страдание отталкивает. Но страдание, выраженное музыкой, доставляет величайшее наслаждение. В чем тут разгадка? И откуда возникает странное чувство, будто все услышанное в первый раз совершенно таково, каким его ожидали? Шиманьскому казалось, что каждая фраза в полонезе, каждый переход знакомы ему не потому, что он уже слышал это, а потому, что он когда-то испытывал те же чувства и звуки полонеза воскресили прошедшее. Еще бы! Ведь и он пережил польское восстание! Начался долгий марш, магически однообразный. Он разрастался, и Шиманьский не удивился тому, что однообразие может так волновать. Возникла в середине, словно радуга в небе, воздушная мазурка, он так и подумал, что эта мазурка должна здесь появиться как память счастливых лет. И совершенно неизбежным показался ему трагический крестный ход вверх ломаными унисонными пассажами, подводящий к репризе. Шопен достиг теперь той вершины искусства, когда нет надобности непременно прибегать к светлым краскам и фанфарным звучаниям, чтобы поддержать бодрость в себе и других. Не было у этого полонеза ликующего конца, он завершался таким же похоронным шествием, каким начался, и еще более мрачным из-за подголосков в басу. Но в первый раз за время, прошедшее после польского восстания, Шиманьский подумал, что для Польши не все кончено. Шопен не только верил в это, он это знал.