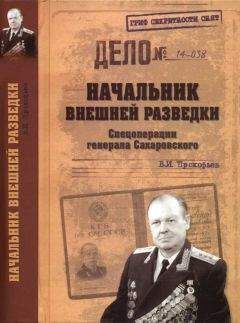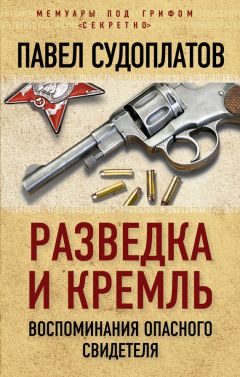Климов предъявил мне справку для Комитета партийного контроля, подписанную заместителем Руденко Салиным. Справка содержала перечень тайных убийств и похищений, совершенных по приказу Берии. Так, прокуратура, расследуя дело Берии, установила, что он в 1940-1941 годах отдал приказ о ликвидации бывшего советского посла в Китае Луганца и его жены, а также Симонич-Кулик, жены расстрелянного в 1950 году по приказу Сталина маршала артиллерии Кулика.
Прокуратура располагает, говорилось в справке, заслуживающими доверия сведениями о других тайных убийствах по приказу Берии как внутри страны, так и за ее пределами, однако имена жертв установить не удалось, потому что Эйтингон и я скрыли все следы. В справке также указывалось, что в течение длительного времени состояние здоровья мое и Эйтингона не позволяло прокуратуре провести полное расследование этих дел. Климов от имени ЦК партии потребовал рассказать правду об операциях, в которых я принимал участие, так как в прокуратуре не было письменных документов, подтверждавших устные обвинения меня в организации убийства Михоэлса, – это, видимо, смущало Климова. Он был весьма удивлен, когда я сказал, что совершенно непричастен к убийству Михоэлса, и доказал это. Ему надо было прояснить темные страницы нашей недавней истории до начала работы очередного партийного съезда, который должен был состояться в 1961 году, но мне показалось, что он проявлял и чисто человеческий интерес и сочувственно относился к моему делу.
Мы беседовали больше двух часов, перелистывая страницу за страницей мое следственное дело. Я не отрицал своего участия в специальных акциях, но отметил, что они рассматривались правительством как совершенно секретные боевые операции против известных врагов советского государства и осуществлялись по приказу руководителей, и ныне находящихся у власти. Поэтому прокуроры отказались письменно зафиксировать обстоятельства каждого дела. Климов настойчиво пытался выяснить все детали – на него сильное впечатление произвело мое заявление, что в Министерстве госбезопасности существовала система отчетности по работе каждого сотрудника, имевшего отношение к токсикологической лаборатории.
Климов признал, что я не мог отдавать приказы Майрановскому или получать от него яды. Положение о лаборатории, утвержденное правительством и руководителями НКВД – МГБ Берией, Меркуловым, Абакумовым и Игнатьевым, запрещало подобные действия. Этот документ, сказал Климов, автоматически доказывает мою невиновность. Если бы он был в деле, мне и Эйтингону нельзя было бы предъявить такое обвинение, но он находился в недрах архивов ЦК КПСС, КГБ и в особом надзорном делопроизводстве прокуратуры. Отчеты о ликвидациях «особо опасных врагов государства» в 1946-1953 годах составлялись Огольцовым как старшим должностным лицом, выезжавшим на место их проведения, и министром госбезопасности Украины Савченко. Они хранились в специальном запечатанном пакете. После каждой операции печать вскрывали, добавляли новый отчет, написанный от руки, и вновь запечатывали пакет. На пакете стоял штамп: «Без разрешения министра не вскрывать. Огольцов».
Пока мы пили чай с бутербродами, Климов внимательно слушал меня и делал пометки в блокноте.
Климов провел во Владимирской тюрьме несколько дней. По его распоряжению мне в камеру дали пишущую машинку, чтобы я напечатал ответы на все его вопросы. Они охватывали историю разведывательных операций, подробности указаний, которые давали Берия, Абакумов, Игнатьев, Круглов, Маленков и Молотов, а также мое участие в деле проведения подпольных и диверсионных акций против немцев и сбору информации по атомной бомбе. Наконец, по предложению Климова я напечатал еще одно заявление об освобождении и реабилитации. Учитывая его совет, я не упоминал имени Хрущева, однако указал, что все приказы, отдававшиеся мне, исходили от ЦК партии. Климов уверил меня, что мое освобождение неизбежно, как и восстановление в партии. Такие же обещания он дал и Эйтингону.
Позже я узнал, что интерес к моему делу был двоякий. С одной стороны, власти таким образом хотели глубже заглянуть в подоплеку сталинских преступлений и окружавших его имя тайн. С другой – освобождение Рамона Меркадера из мексиканской тюрьмы и его приезд в Москву подстегнули Долорес Ибаррури и руководителей французской и австрийской коммунистических партий добиваться освобождения из тюрьмы Эйтингона и меня.
Поездка Климова во Владимир во многом улучшила положение жены. Недавно назначенный председатель КГБ Шелепин направил в Комитет партийного контроля справку, положительно характеризующую мою деятельность и Эйтингона; в ней отмечалось, что Комитет госбезопасности «не располагает никакими компрометирующими материалами против Судоплатова и Эйтингона, свидетельствующими о том, что они были причастны к преступлениям, совершенным группой Берии». Этот документ резко контрастировал с подготовленной в 1954 году Серовым, Панюшкиным, Сахаровским и Коротковым справкой о том, что рабочих дел Судоплатова, Эйтингона и Серебрянского в архивах обнаружить не удалось, поэтому установить полезность работы для советского государства службы диверсии и разведки под руководством Судоплатова в 1947-1953 годах не представляется возможным.
На эту справку до сих пор ссылаются мои недоброжелатели из числа историков советской внешней разведки, в частности использовавший ряд подтасованных архивных материалов В. Чиков.
Такого рода оценка сразу дала понять опытным людям, что наша реабилитация не за горами.
По времени это совпало с попытками КГБ вступить в контакт с одной еврейской семьей в Соединенных Штатах. Это была та самая семья, которой жена помогла уехать в Америку из Западной Украины, где они оказались после захвата немцами Варшавы в 1939 году. В 1960-м один из их родственников приехал в Москву в качестве туриста и пытался разыскать жену в «Известиях», поскольку в свое время она говорила им, что работает там. Узнав об этом, КГБ связался с ней, надеясь привлечь этого человека для работы на советскую разведку в Америке. Жену попросили прийти на Лубянку, где с ней несколько раз обсуждали возможность использования нашей квартиры для встреч с приехавшим американским туристом. Из попытки завербовать его, правда, ничего не вышло, но квартиру начали использовать как явочную. Теперь, казалось, угроза потерять квартиру в центре над нами больше не висела.
Идеологическое управление и генерал-майор из разведки КГБ Агаянц заинтересовались опытом работы моей жены с творческой интеллигенцией в 30-х годах.
Бывшие слушатели школы НКВД, которых она обучала основам привлечения агентуры, и подполковник Рябов проконсультировались с ней, как использовать популярность, связи и знакомства Евгения Евтушенко в оперативных целях и во внешнеполитической пропаганде. Жена предложила установить с ним дружеские конфиденциальные контакты, ни в коем случае не вербовать его в качестве осведомителя, а направить в сопровождении Рябова на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Финляндию. После поездки Евтушенко стал активным сторонником «новых коммунистических идей», которые проводил в жизнь Хрущев.
Агаянц также связывался с женой с целью выяснить ряд интересовавших разведку эпизодов в связи с кратковременным приездом в начале 1960-х годов в СССР М. Будберг-Бенкендорф, которая передала архивы Горького из-за границы советским властям в 1930-х годах. Встреча Эммы и Агаянца произошла по этому вопросу в кабинете оргсекретаря московской писательской организации, в то время уже генерал-майора КГБ в отставке Ильина. Жена при участии Ильина «восполнила пробел» и указала на кодовые архивные материалы по сотрудничеству Будберг с ГПУ – НКВД. Ей повезло, что она отошла от этой линии работы в начале 1936 года, еще до смерти Горького. Однако жена конкретно указала на роль Будберг-Бенкендорф как агента-двойника английской разведки и НКВД. Та, в частности, сыграла существенную роль через небезызвестного организатора заговора против Ленина в 1918 году Локкарта в зондажном обеспечении приезда в Москву в 1930-х годах влиятельного деятеля консервативной партии Англии, будущего премьер-министра А. Идена. Здесь следует заметить, что Горький, будучи тяжелобольным человеком, умер своей смертью.
Жена также помогла сыну одного из наших друзей – Борису Жутовскому, талантливому художнику-графику, который открыто критиковал политику Хрущева в области культуры. Она организовала встречу художника с сотрудниками КГБ, чтобы оградить его от преследований. Он объяснил им, что его высказывания были неправильно истолкованы, и написал покаянную записку в партийные органы и в Союз художников, что поддерживает курс коммунистической партии. Его записка попала в Идеологический отдел ЦК партии, где решили, что Жутовский должен и дальше получать поддержку опекавших его молодых офицеров с Лубянки.