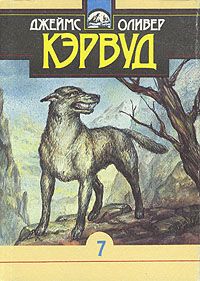Это в двадцать четыре-то года!
Я спросил Федю совершенно об ином:
- Когда нас, как считаешь, выведут домой?
- Соскучился? По Москве, по Ростову?
- Вообще по Роднне... Хочу домой, к себе. Пусть и не Москва, не Ростов, пусть Сибирь, Урал, Приморье, лишь бы на родную землю!
И не хуже солдат мы, замполит батальона и командир роты, принялись гадать на кофейной гуще, куда нашу дивизию могут вывести для расформирования, - в Читу, Благовещенск, Хабаровск, Улан-Удэ, Красноярск или Новосибирск? А может, на запад повезут, в Центральную Россию? А может, на юг, на Украину или Северный Кавказ? Трушин сказал:
- Как бы там ни было, а некоторые части в районе Ванемяо уже грузятся в эшелоны. Хотя основная эвакуация, как поговаривают, будет в октябре, а то и позже...
Пусть грузятся! И эшелоны эти пойдут куда-то - на север, запад пли восток. - по только не на новую войну. Хватит! Отвоевались!
В середине сентября мы провожали на Родину отдельный саперный батальон, где у Федп Трушина был дружок-земляк.
Вагоны были украшены красными флажками, плакатами, еловыми ветками совсем как те эшелоны, что шли в мае - июне через всю страну на Восток. Теперь пойдут на Запад, окончательно до дому, до хаты. Скорей бы и нам!
Мы выкурили с трушинским землячком не по одной сигарете, переобиимались и перецеловались с саперами, а состав все не отправлялся. Вечерело. Взошел ясный месяц, осветил станционные здания, погрузочно-разгрузочные площадки, приземистые склады вдоль путей. На ближнем пруду засеребрилась лунная поляна, а когда месяц стремительно опустился, на воду легла лунная дорожка. Наконец эшелон тронулся под медный грохот оркестра и приветственные выкрики провожающих. Федор и я кричали не тише прочих...
Но что примечательно - эшелон провожали и китайцы: на рукавах красные повязки, в руках красные флажки. И среди этой толпы, поближе ко мне и Трушину - двое, старый и молодой. Молодой сказал:
- Освободили нас и уходят домой.
Старый сказал:
- Первый раз за свою жизнь впжу такое... Чтобы пришедшие с оружием добровольно уходили...
Китайцы говорили на сносном русском и громко, чтоб мы их услышали. Федя и я их услышали.
Мои солдаты - мальчишки, непоседы, и заводила у них Вадик Нестеров раздобыли футбольный мяч, принялись усердно пинать его. в итоге высадили стекло в казарме. Старшина Колбаковский, вне себя от гнева, грозил им всяческими карами, но это не могло заменить стекла. И чтобы как-то, временно, заделать дыру в окне, он принес свернутый в трубочку плотный лист бумаги. Объяснил мне:
- Нашел в каптерке. От прежних хозяев осталось, заховалп за шкафом...
Развернули трубочку. Это был цветной портрет - и, как нам перевели, с надписью: "Император Ну И, главнокомандующий морскими, воздушными и сухопутными войсками Мапьчжоу-Го".
Хоть и засижено мухами, по золотые эполеты, золотой пояс, атласная лепта наискось, через плечо, весь мундир, до самого живота, - в орденах, а сбоку - сабля, император как бы опирается на нее. Хилый, тщедушный очкарик, загримированный под военачальника. Соплей можно перешибить. У этой марионетки было двухсоттысячпое войско, которым бсзраздельпо командовали японцы. Впрочем, как и самим императором.
Старшина Колбаковский сказал:
- Товарищ старший лейтенант, мы данного мужичка на портрете замажем чернилами, чтоб не было позора!
- Правильно! Но о стекле побеспокойтесь.
- Будет сполпепо, товарищ старший лейтенант! Не извольте сомневаться.
Что такое смертники, которых в Квантунской армии были тысячи? Я считаю: отчасти это фанатизм, отчасти следствие отсталости военной техники. Ведь японская крепко уступала и советской и американской. Потому-то и залезал обреченный японец в морскую торпеду, чтобы взорваться у борта неприятельского корабля, или в самолет и танкетку, начиненные взрывчаткой, пли кидался с магнитной миной под танк, или его приковывали цепью к пулемету. Между прочим, японские смертники до своей гибели получали повышенное денежное содержание и лучшее питание.
Спрашивается: так не погашение ли издержек при жизни эта его будущая смерть? За кровь платят иенами.
С каждым днем смертники все реже беспокоят пас: кого выловили, кто сам сдался. А вот хунхузы пошаливают: все чаще роты нашего батальона поднимаются по тревоге, вызванной нападением этих бандитствующих китайцев то на банк, то на деревню, то на склады, охраняемые советскими часовыми. Наглеют хунхузы...
Мою роту подняли в ружье утром, едва мы позавтракали. Завтракавший с нами замполит Трушин досадливо сплюнул, а я улыбнулся: настроение было безоблачное, радостное, и никакая тревога не могла испортить его. Пока разбирали оружие, боеприпасы, пока рассаживались в подъехавшие машины автобата, выяснилось: на той станции, откуда мы с Федей Трушиным провожали вчера вечером саперный батальон, совершено нападение на вещевой склад, часовой тяжело ранен ножом, хунхузы с награбленным уходят на автомашине в горы.
- Я с тобой, Петро, - сказал Трушнн.
- Нужно ли?
- Присутствие комиссара не помешает...
- И то верно.
Три "студера", урча моторамп и разбрызгивая грязюку, выползли за ограду и помчали по разбитой, в колдобинах, шоссейке.
Утро было бестучевое, солнышко всходило из-за горбатой лысой сопки. В кабине было тепло, покачивало, убаюкивало, по я напряженно глядел вперед. У чумизового поля, на развилке, к нам подсел оперативник, и мы двинули прямиком к станции. Вон и пруд, где вчера была лунная поляна. Сейчас вода морщинилась от ветерка, розовела в первых солнечных лучах. "На часового напали на рассвете, - подумал я. - Нагоним! Выживет ли часовой? Горько, если погпбпет уже после подписания мира".
Мы проскочили станцию и повернули в горы и вскоре увидели впереди на дороге старый, потрепанный пикап, жавший на всю железку, - по нашим данным, он смахпвал на машину с хунхузами. Взревели "студебеккеры", рванулись, как с привязи. На пикапе поняли, что не уйти; оп затормозил, и несколько человек бросились пз него в заросли гаоляна, к заброшенным фанзам.
"Студебеккеры" остановились, солдаты попрыгали наземь. Я приказал разворачиваться в цепь, окружать фанзы.
Мы с Трушиным шлп плечом к плечу, и я увидел: за порушенной, без крыши, фанзой - человек. В кепке, в куртке и шароварах хаки, в тапочках. То показывается из-за стены фанзы, то скрывается. А чего топтаться? Выходи, сдавайся, деваться тебе некуда.
Человек опять высунулся из-за фанзы и вдруг вскинул карабпп, и, прежде чем услышался выстрел, меня ударило, как пулей или осколком, предчувствием нелепости и непоправимости этого выстрела. Рядом упал Трушин, я уловил винтовочный хлопок и кинулся к Федору. И тут меня словно рубанули чем-то по горлу.