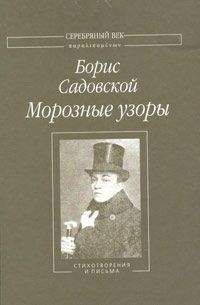Я никогда не слышала от мужа слова «обэриуты», но стихи Введенского, Олейникова и, в особенности, Заболоцкого Коля часто цитировал наизусть. Он всегда говорил: «Тебе нравится поэт? Тогда прочитай на память хоть одну строфу». Он Олейникова знал много и хорошо, любил из предыдущих — Минаева, Сашу Черного, хотя немногое признавал у него.
Мы узнали о смерти Заболоцкого из газеты, которую прочли на стенде у Арбатской площади. Коля сразу помрачнел, начал говорить о Заболоцком — поэте трудной судьбы. В тот же день встретились с Евгением Евтушенко. Решили пойти помянуть Заболоцкого. В тот вечер и Глазков, и Евтушенко читали его стихи.
Коле нужна была аудитория. Но не так часто приходилось ему выступать: всего несколько крупных авторских вечеров за всю жизнь. О них я и хочу написать.
Первое такое выступление — творческий вечер был проведен в начале шестидесятых годов в Каминной ЦДЛ. Было человек 30–40. Большинство — наши знакомые. Коля волновался очень, читал, как и всегда, когда был взволнован, дискантом. Потом освоился. Читал все, что входило в его апробированную программу, а потом все, что просили. Был успех, хотя слушателей собралось мало. Однако на этом вечере были Ярослав Смеляков, Егор Исаев, Александр Безыменский, Сергей Наровчатов, который вел вечер и сам прочел глазковскую «Молитву» («Господи, вступися за Советы…»).
Другое выступление состоялось уже в переполненном Малом зале ЦДЛ. У нас тогда было очень плохо с деньгами, и у Коли была отстающая подошва на туфлях, которую я и пришила нитками. Опять страшное волнение. Даже забывал строчки. Это при его-то памяти! Я подсказывала. Читал много, был хохот, аплодисменты, вызовы. Читал по просьбе Бокова, еще кого-то — всех, кто просил…
И когда принимали его в члены Географического общества, тоже читал стихи, и тоже успешно. Он проходил по краеведческой комиссии, отстаивал Хабарова от того, что тому приписывалось звание конквистадора, а Коля его считал великим путешественником, первооткрывателем. Это было отражено в «Трудах Географического общества».
Неоднократно он просто забирался на эстраду Большого зала ЦДЛ, когда шли чествования того или иного его друга, или с места, никем не званный, поздравлял, читал стихи, посвященные юбиляру. Запретить этого ему не могли. А вот пригласить наравне с прочими — не приглашали. Это его всегда больно ранило. Как не хватало ему внимания и признания. Того признания, которое выражали ему многие поэты, с такой охотой дарившие Николаю Глазкову свои книги.
В его библиотеке книг с дарственными надписями от «а» до «я» — масса. Беру из самой середины тех книг с автографами, что стоят на полках, несколько и хочу, чтобы читатели узнали о дарственных надписях на них. Тем самым опровергаю ходячую сплетню о том, что Коля «выжимал» у слабаков пожатием руки хвалебные надписи. Привожу надписи отнюдь не слабаков — ни в поэзии, ни в жизни.
Михаил Луконин свою книгу стихов «Сердцебиение» (М., 1947) преподносит «богатырю и Агамемнону, поэту поэтов Коле Глазкову, чтобы помнил!».
А вот слова Александра Межирова на его книге «Разные годы» (М., 1956): «На память о разных годах — другу и учителю поэзии Николаю Глазкову».
На титуле книги Сергея Наровчатова «Горькая любовь» (М., 1957) автором написано: «Дорогому Коле Глазкову — комете постоянного действия и присутствия на поэтическом нашем небосводе».
Ярослав Смеляков дарит Глазкову сборник своих «Избранных стихов» (М., 1957) — «с заинтересованным удивлением». А Борис Слуцкий на своей книге «Память» (М., 1957) написал Николаю Глазкову: «20 лет знаю наизусть твои стихи и не забуду до смерти». И завершил это признание словами: «С высоким уважением».
В 1977 году, через год после смерти Михаила Луконина, когда почтить его память пришли только Николай Глазков и Юрий Окунев из Волгограда (друг и верный соратник Луконина еще с довоенных лет), Коля горько сетовал, что так быстро забывается все.
А между тем и к самому Коле исподволь приближалась тяжелая болезнь! Еще в 1976 году я обратила внимание на то, что, когда он плыл (а было уже холодно), вся спина у него стала какого-то страшного синего цвета. Думаю, что это печень уже давала себя знать. Я сказала об этом литфондовскому врачу. Но ему не запретили принимать холодные водные процедуры.
С апреля 1977 года у Коли сначала болело правое колено, в июне стала краснеть и опухать вся нога, потом и вторая тоже. Осенью (кажется, в сентябре) ноги как-то успокоились, боли ослабли, и он опять потянулся к воде. Мы пошли. Я хотела покататься на лодке. Так уж получилось, что за все годы, что мы прожили, Коля, который очень гордился тем, что у него «на двух ладонях нет мозоли ни одной», только считанные разы катал меня. Взяли лодку. Коля стал грести. Шли вдоль Москвы-реки к плотине не то к шлюзу. Берега уже стояли в желтой листве. Вдоль берега виднелись гнезда стрижей или ласточек, которые с писком вылетали из них. Коля греб не сильно и явно утомлялся. Я заметила это и, щадя его самолюбие, просила останавливаться в том или в другом месте, чтобы полюбоваться побережьем. Так мы «открыли» и Бухточку Бурундучка, которую мне Коля преподнес в подарок. Об этом и его стихи.
Обратно он еле-еле дотянул, а я грести совсем не могу. По лестнице тоже шел с трудом. Это была его последняя вылазка на природу. Следом пришлось ему прибегнуть к палке, потом к костылям, на которых он передвигался в основном при помощи рук. Руки оставались сильными до конца.
Коля долго болел. Жили мы теперь не в центре, а на окраине Москвы, и немногие приходили навестить его. Был среди них и Сережа Наровчатов. Отрадно было видеть, как оживился, порозовел от радости Коля, когда они с Сережей вспоминали свою юность, первые творческие шаги и давние озорные проделки.
В дни тяжелой болезни Коли друзья и почитатели стали писать ему то, чего он так долго ждал от них, — слова признания…
Евгений Храмов
Предисловие к книге Николая Глазкова
Николай Иваныч Глазков
Никогда не писал пустяков.
Потому что и пустяки
Он умел превращать в стихи.
С ним легко было водку пить,
А ему было трудно петь,
Ибо и поэтический быт —
Это не романтический бот
И не парус там, «в голубом» —
Это ярость с разбитым лбом.
Дураки не берут стихи,
А у умных дела плохи,
Ведь хорошими трудно быть,
Но зато их удобно бить.
Оттого Николай Глазков
Напечатал не много стихов.
Но теперь, Глазков Николай,
Ты сверкай, удивляй, накаляй!
Ибо тот настоящий поэт,
Кто тогда и когда его нет.