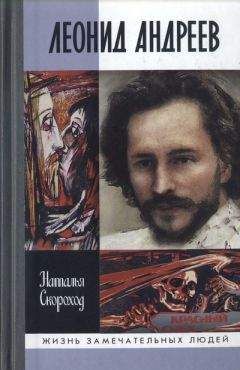А. Р. Кугель первым разглядел этот факт, как ему казалось, андреевской самокритики: «Папа Брике с точки зрения содержателя цирка рассуждал, вероятно, так: „бывают разные номера — одни упражняются на трапеции; другие на неоседланных лошадях; третьи — получают пощечины. А есть еще ‘номер’ словесной эквилибристики, для цирка совершенно бесполезный, а для жизни вредный, потому что только туманит мозг, извращая природу вещей и моральные основы существования“»[514]. Надо сказать, что критик был солидарен с папашей Брике, находя в его рассуждениях ключ и ко всему андреевскому творчеству — надуманному, вымученному, головному.
Но мы-то с вами, конечно, далеки от того, чтобы читать эту пьесу глазами папаши Брике. И прелесть андреевского замысла заключается именно в том, что номера циркового представления шли где-то там, за кулисами театра — на арене цирка. На сцене же — готовились к «представлению» и разыгрывались «номера жизни» и эта, полная страстей жизнь постоянно угрожала той — такой блестящей и легкой на вид — жизни арены. Как и во всякой хорошо сделанной пьесе — та и другая жизнь постоянно «просачивались» на территорию друг друга, например, сцена «закулисного» объяснения Тота и Консуэллы заканчивалась так:
«Тот (Внезапно бросается на колени перед Консуэллой.) Я люблю тебя, Консуэлла! Откровение моего сердца, свет моих очей, — я люблю тебя, Консуэлла! (С восторгом и слезами смотрит на нее — и получает пощечину. Отшатнувшись.) Что это?!
Консуэлла. Пощечина! А ты забыл, кто ты? (С злыми глазами, вставая.) Ты Тот, который получает пощечины. Ты забыл? Хорош бог, у которого такая рожа… битая рожа! Тебя не пощечинами согнали с неба, бог?
Тот. Погоди, не вставай… Я… Я еще недоиграл!
Консуэлла (садясь). Так ты играешь?»
Финальный эпизод пьесы был построен по законам циркового номера — прощание Консуэллы — будущей баронессы — с коллегами-циркачами: шампанское, шутки, поцелуи, слезы, долгие приготовления, напряженное ожидание, неожиданный эффект — отведав шампанского из бокала Тота, Консуэлла умирает на глазах «у публики». Опять-таки, ее новоиспеченный жених Барон, выйдя за кулисы, вместо того чтобы позвать полицию, стреляет себе в голову — эффект. Умирает Тот, хлебнув из того же бокала, — тройной эффект. Так принцип циркового номера, пронизывая все уровни этой пьесы, делал ее сказочное содержание — достоверным, а неожиданные эффекты — оправданными. Недаром Немирович-Данченко, который по-прежнему внимательно следил за творчеством Андреева, дважды посмотрев московскую премьеру «Тота…», нашел, что пьеса необычайно сценична.
Конечно, события и герои «тянули» на романтическую мелодраму, Андреев же упорно считал, что создал трагедию. И это было показательное заблуждение. Дело в том, что под маской клоуна Тота прятался сам автор, и прятался — не слишком усердно: его «ослиные уши» торчали с разных сторон. Андреев в письмах многим друзьям и знакомым частенько твердил о том, что его мечта — уйти из той действительности, которая его окружает, например, выиграть 200 тысяч рублей и перестать печататься и обивать пороги театров… Герой «Тота…» выбирает схожий путь: «И отчего не вообразить, что у меня просто нет никакого имени? — отвечает он, когда хозяин цирка просит предъявить документы. — Разве я не мог потерять имя, как теряют шляпу? Или его у меня обменяли? Когда к вам приходит заблудившаяся собака, вы не спрашиваете ее об имени, а даете новое, — пусть и я буду такая собака. (Смеется.) Собака Тот!» Но вскоре мы узнаем о прошлом «собаки Тота»: как-то раз в закулисье спускается некий зритель, и далее из диалога этого господина и Тота мы понимаем, что пришелец вытеснил нашего героя из его прошлой жизни: он живет с его женой, пользуясь его замыслами, пишет и издает успешные книги, «…ты знаменит; нет бульварной газеты, где не приводилось бы твое имя и… твои мысли. Кто знал меня? Кому нужна была моя тяжелая тарабарщина, в которой не доищешься смысла? — горько восклицает Тот. — Ты — ты, великий осквернитель! — сделал мои мысли доступными даже для лошадей. С искусством великого профанатора, костюмера идей, ты нарядил моего Аполлона парикмахером, моей Венере ты дал желтый билет, моему светлому герою приставил ослиные уши — и вот твоя карьера сделана…»
И здесь — еще одна реалия из жизни автора «Тота…»: Михаил Арцибашев — автор скандального, чрезвычайно популярного в 1910-е годы романа «Санин» (роман этот, по моему мнению, трудно прочесть сегодня даже до половины), ловко использовал идеи Андреева для собственных — подчас откровенно порнографических произведений. Арцибашев писал и пьесы: в «Законе дикаря» и «Ревности» он подавал андреевские идеи, например, о бездне, скрывающейся внутри человеческой души, в облегченном, вульгарном, а потому доступном для публики виде, это чрезвычайно злило Андреева, поскольку сама идея в таком исполнении выглядела мерзким порнографическим слепком с «Екатерины Ивановны» или «Анфисы». Ну и конечно же публика, набросившись на легкое «арцибашевское чтиво», не торопилась возвращаться к требующим некоторого размышления и весьма скудным на «откровенные подробности» текстам Леонида Андреева…
Но, пожалуй, самая важная черта, объединяющая Тота и его автора, — любовь к юной прекрасной деве. На некоторое время сердечная жизнь нашего героя оставалась в тени повествования, поскольку, женившись и пережив «личную драму с Анной», в конце 1910-х годов Андреев погрузился в другие стихии… Но начиная с 1914 года в его жизнь вновь властно вошла «эта тема…». В начале войны, заехав на дачу к Чириковым в Нейволу, Андреев впервые разглядел их дочь — восемнадцатилетнюю Милочку: «что-то молодое, очень чистое и миловидное, чужое в своем русском девичьем наряде и раскрасневшихся щеках»[515]. Начало этого «романа» осталось для окружающих незамеченным: девушка, оторвавшись от «молодежи», вошла в комнату к «старшим» и немного послушала их «умные разговоры» о политике и войне. Продолжая в чем-то убеждать собеседников, Андреев почувствовал вдруг, что «весь стал другой» — «глубокий, глубоко и нежно волнуемый смутными, но широкими и нежными настроениями»[516]. Милочка годилась нашему герою в дочери, она училась рисунку и живописи у Билибина и Кордовского; существует ее, сделанный Иваном Билибиным, карандашный портрет. Действительно, очаровательное — печальное и серьезное лицо, какая-то романтическая печать задумчивости, ни тени позерства или кокетства. Как мне кажется, Андреев полюбил Милочку именно за эту задумчивость и серьезность, но они-то и мешали ему сдружиться с предметом страсти, как его герой Тот дружил с наездницей Консуэллой. Маститый литератор настолько робел в присутствии девушки, что едва мог выговорить пару фраз.