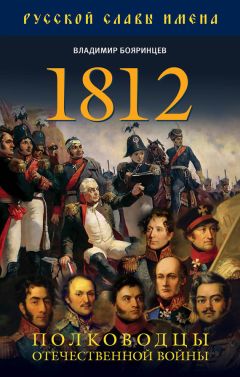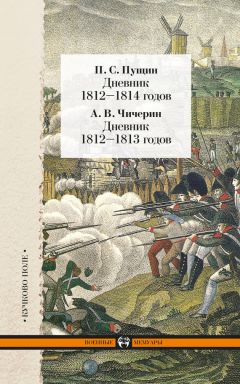Ознакомительная версия.
– Partez, m-r Mouravieff; soyez heureux, revenez plus tôt et soyez sûr que vous emportez notre estime, c’est tout ce que je puis vous dire.[228]
Я не мог ни слова отвечать, потому что был слишком смущен. Жена его хотела тоже что-то сказать, но была тронута и промолчала. Я был уже в дверях, когда Николай Семенович опять остановил меня.
– Николай Николаевич, – сказал он, – прошу вас беречь себя; будьте уверены в нашем уважении к вам. Прощайте, желаю вам всех возможных благ, – и в другой раз обнял меня.
Все семейство около меня собралось. Мы простояли еще несколько времени в глубоком молчании, после чего я вышел. Корсаков проводил меня, и мы пришли вместе домой. Я просил его доставить своей тетке письмо, которое я при нем же написал.
Написав сие письмо, я несколько успокоился. Корсаков вышел от меня в полночь. Я не мог уснуть до рассвета и, встав с постели, приказал лошадей вьючить, чтобы выехать.
Часть шестая
Со времени выступления в поход в Вильну до выезда моего из Петербурга в посольство Персидское
Пятая кампания до Вильны
Гвардейский корпус, выступая в поход, был разделен на несколько колонн, при каждой из коих находили сь наши офицеры. Брат Александр, я и Бурцов, мы были прикомандированы ко второй колонне, которая шла через Нарву, Гдов и Псков до Вильны. Александр был старший, он поехал вперед с Бурцовым для заготовления дислокации войскам, а меня оставил в Петербурге на один день для окончания некоторых дел. Прощание мое с адмиралом и семейством его случилось в этот самый день.
Прибыв в Красное Село 28 мая в 7-м часу вечера, я приказал кормить лошадей, а сам растянулся на лугу. До тех пор воображение мое развлекалось движением, но коль скоро телесное спокойствие позволило ему действовать, оно начало блуждать. Красоты природы, закатывающееся солнце, жалостный крик кулика, отдаленный звук барабана на заре, ничего не могло произвести во мне той тихой меланхолии, которая часто услаждает встревоженную душу Мне представлялись ужасные картины. Мне в мысль приходило возвратиться в Петербург и увезти ее, куда и как сам не знал. В 11 часов вечера я поехал далее, крайне расстроенный сердечной тоской своею и в полночь прибыл на станцию Кипень. Под самый бой стенных часов вошел в комнату Петр Колошин, который выехал из Петербурга в один день со мной, следуя по почте в Париж, но по свойственной ему беспечности не заметил, как пьяный извозчик его проблуждал в проселочных дорогах и, наконец, попал в Кипень. Я был чрезвычайно обрадован его приезду, бросился обнимать его как избавителя моего одиночества и, рассказав ему все со мною случившееся, немедленно отправился нагонять брата, которого настиг в тот же день уже во 106 верстах от Петербурга на ночлеге. Тут я стал покойнее и продолжил с ним путь вместе до Нарвы. Мы ехали двумя днями впереди войск, заготовляя для них дислокации. Мне предстояло мало дела, и потому и занимался охотой, имея товарищем славного Бурцова, с которым я пришел в три перехода пешком из Нарвы в Гдов. Охота наша нам немного приносила, но мы соревновали друг другу в бодрости. Неутомимый товарищ мой, по прибытии на ночлеги, не упускал из виду обычного своего волокитства, которое ему также не удавалось, как нам обоим охота.
Не доходя еще Пскова, мы следовали через Сороковой бор, обширный лес, о котором я уже упоминал. На ночлеге в селении Яме мы узнали, что верстах в пятнадцати в лесу была деревня Платона Ивановича Муравьева, нашего дальнего родственника, там проживавшего. Я его никогда не видел, но так как у нас был недостаток в съестных припасах, то я письмом просил его прислать нам оных. Муравьев сам приехал и звал меня к себе ночевать. Мне совсем не хотелось после большого перехода еще ехать за 15 верст, чтобы уснуть, но я принужден был сие сделать из признательности за припасы, которые мы получили. На другой же день мне довелось проехать одному более сорока верст лесом и песками, чтобы нагнать брата на следующем ночлеге.
По прибытии нашем в Псков я, с согласия брата Александра, поехал к дяде Николаю Михайловичу Мордвинову, который проводил лето в деревне в Порховском уезде; я провел у него дня три и нагнал брата в Острове. Из Острова мы следовали на Люцин и Режицу. В Режице присоединился к нам молодой человек Каменской с повозкой и вещами Берга, который письмом просил брата взять на свое попечение сего Каменского, имевшего по прибытии в Вильну определиться на службу под покровительством Берга.
Из Режицы брат Александр поехал вперед в Вильну, чтобы приготовить там с обер-квартирмейстером Мандерштерном дислокации для своей колонны, а мне поручил исправление его должности при колонне. Мы следовали через Динабург, где Бурцов познакомил меня с одним пионерным капитаном Шевичем, который был известен по буянству и храбрости и о котором я упомянул при описании Бородинского сражения.
В Динабурге встретил нас адъютант Сипягина Леман, который ехал из Варшавы в Петербург и известил нас о победе, одержанной союзными войсками под Ватерлоо, о занятии Парижа и о прекращении военных действий. Нам прискорбно было узнать, что гвардия не перейдет границ наших.
Переправившись через Двину, я заехал на мызу к одному курляндскому помещику Кайзерлингу, с которым познакомился, и, позавтракав у него, поехал далее. Со следующей станции Бурцов тоже оставил меня и уехал для размещения 2-й гвардейской дивизии около Свециян. И так я остался один с Каменским. Я поспешил приехать в Козачизну, где мне был несколько знаком помещик Каминской, о котором я упомянул в сих записках при начале кампании 1812 года. Он узнал меня и принял самым гостеприимным образом. Мне отвели квартиру в беседке в саду, где я провел дней пять весьма приятным образом. Тут, в тишине и уединении, старался я с памяти изобразить кистью черты той, которой лик не оставлял моего воображения. Терпение мое не истощилось после многих испытаний, и мне наконец удалось нарисовать на кости тот образ, с коим мысли мои не разлучались. Я оставил Козачизну с приятным воспоминанием, как о пребывании в сем месте, так и об удаче, коей достиг в предпринятом мною заочно миниатюрном портрете, и спешил соединиться с товарищами.
Бурцов был в Вильне свидетелем поединка, случившегося между нашим капитаном Глазовым и поручиком Литовского уланского полка Леслеем. В начале 1812 года Глазов, находясь в Вильне, был знаком с одной девушкой, которую он и посетил в 1815 году, только чтобы видеть ее. Он был во фраке. Выходя от нее, он встретился с тремя уланскими офицерами 1-й уланской дивизии, при которой он находился, двумя братьями Степановыми и Леслеем, которые его только в лицо знали. Леслей был когда-то знаком по пансиону с Бурцовым, вступил после в военную службу, никогда при полку не находился, а все шатался по столицам и играл в карты. Глазов уступил им место; они раскланялись и разошлись. На другой день Леслей встретил Бурцова на гулянье, они узнали друг друга. Бурцов позвал Леслея к себе, и между разговором Леслей стал хвалиться, что накануне вытолкал Глазова из непотребного дома так, что он пересчитал лбом все ступени лестницы. Бурцова поразил этот рассказ.
Ознакомительная версия.