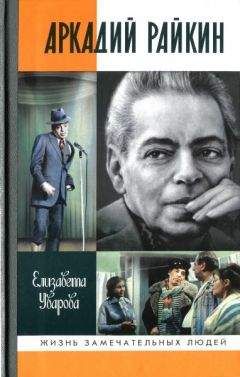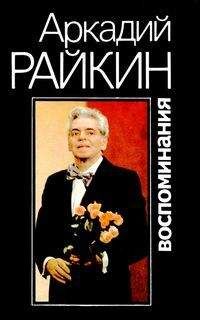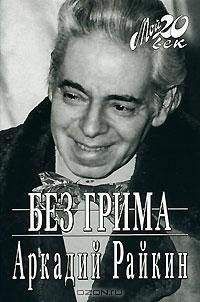Случается, продолжал он, человек решил сыграть какую-то не очень благовидную роль лишь на время; но вдруг обнаруживается, что маска уже приросла, ее невозможно отодрать от кожи.
Размышляя вслух, артист естественно и незаметно переходил на прямой диалог с публикой. «Вот сидит порядочный человек, — говорил он, всматриваясь в зал, — ну и вы, конечно, порядочный, и, естественно, вы тоже, я уже не говорю о вас. Ну а кто же здесь непорядочный?» Долгая, интригующая и немного даже смущающая пауза снималась исполненным душевной боли вопросом: «Почему же у нас тогда происходит то, что у нас так часто происходит?»
На таком сочетании юмора, горькой иронии и душевной боли шел весь монолог. Продолжая тему порядочности, Райкин говорил об отношении к государственному имуществу, к общественной собственности: «...украсть что-то! Слово-то какое, его произнести страшно! Чтоб я у тебя украл — за кого ты меня принимаешь? Другое дело не у тебя, а вот для тебя что-то там с работы!.. А человек порядочный может порядочно вынести! Нет, вообще это прекрасно, потому что если мы выносим, выносим, а там еще много (в повышении голоса сквозило почти детское удивление. — Е. У), — значит, порядок у нас такой выносливый!»
Райкин говорил о позиции равнодушного наблюдателя, о партнерах, влияющих на нашу собственную игру, и о многом другом. И хотя жизнь — театр, в отличие от сцены в жизни льется настоящая кровь и люди испытывают настоящую боль. Это придуманное людьми зеркало, помогающее высветить многое из того, что в жизни остается в тени, «будет им необходимо до тех пор, пока будет правдиво. Имя ему — театр, его величество театр!». Райкин заканчивал монолог на высокой патетической ноте. Патетика, ему не очень свойственная, была здесь органична, ведь речь шла о деле всей его жизни, о судьбе, неразрывно связанной с театром.
Эстрада всегда обращалась к быту. Но любопытно, что при той степени концентрации мысли, которая была в райкинском монологе, бытовые примеры выглядели мелкими и неубедительными. Так, в тексте, исполнявшемся на первых спектаклях, в качестве примера театрализации жизни приводилась свадьба с непременной куклой и цветными воздушными шариками на капоте машины. Но очень скоро сам артист исключил из монолога этот довольно большой кусок.
Среди авторов «Его величества театра» — уже знакомые по предыдущим спектаклям В. Синакевич, М. Гиндин, Г. Мин-ников и дебютант Михаил Мишин. Именно ему в содружестве с В. Синакевичем и А. Райкиным принадлежит вступительный монолог. Он же стал автором еще одного, ключевого для спектакля номера «Интервью с самим собой», завершавшего первое отделение.
Аркадий Исаакович рассказал, что замысел «Интервью» родился у него лет за десять до того. Не раз заказывался текст, создавались различные его варианты. И вот, наконец, в программке значилось: «А. Райкин, М. Мишин. Интервью с самим собой (монолог)».
Когда сравниваешь три варианта, которые мне удалось найти в архиве театра (по-видимому, их было больше), сразу бросается в глаза то, как настойчиво и последовательно пробивался Райкин к «самому себе», преодолевая штампы привычных интервью. Он решительно отказывается от стереотипных высказываний о сатире, ее роли в жизни, о соотношении негативного и позитивного в искусстве, о равнодушии и т. д. Стараясь быть предельно искренним, он уходит и от нравоучительности, и от сентиментальности.
Так, один из первых вариантов (авторы А. Райкин, В. Веселовский, Л. Измайлов) заканчивался тирадой, исполненной романтического пафоса: «Я хочу дожить до такого времени, когда не будет невежества, грубости, перестраховки. Когда останутся только те пороки, которые существовали в нас на протяжении всей истории человечества, и тогда ты будешь говорить о ревности, жадности, лени и других общечеловеческих слабостях, а я буду брать у тебя интервью».
В окончательном варианте бесследно исчезли даже намеки на пафос — артист почувствовал, что в разговоре с самим собой он по меньшей мере неуместен. Доверительность и лирика, прикрытые иронией, и ирония, сквозь которую пробивалась хватающая за сердце лирическая нота, — слагаемые эмоциональной палитры монолога. Именно так в минуту раздумий человек разговаривает со своей совестью: «Кому, как не самому себе, можно задать самые каверзные вопросы, с кем, как не с самим собой, можно поделиться самыми сокровенными мыслями?»
Распахнутость души не исключала элементов игры. После первых реплик Райкин заговорщицки обращался к публике: «Всё это не для печати, как вы сами понимаете. Но при вас, при зрителях, с которыми у меня в течение стольких лет такие добрые отношения, мне кажется, я ничем не рискую. Тем более что пришли сегодня, по-моему, все свои». Пристальный взгляд в публику: «И этот тоже свой». И как бы про себя: «А впрочем, завтра мы поймем».
Работая с Мишиным над окончательным вариантом, Аркадий Исаакович уточнял отдельные реплики, дробил их на более короткие, добиваясь экспрессивности диалога. Для примера возьмем кусочек текста М. Мишина и тот же самый в последнем варианте Райкина и Мишина.
Первоначальный вариант:
— Отвечай, как жизнь?
— Ты что, не знаешь, как жизнь? Возьми газету.
— Нет, я про тебя лично: жизнь такая не надоела?
Последний вариант:
— Ну дак как?
— Что?
— Нет, я говорю, как?
— Не понял.
— Я говорю: ну жизнь, я говорю, как?
— А, жизнь как? Ну возьми газету и поймешь.
— Нет, не понял меня. Я говорю, личная жизнь ничего?
Подобная работа шла по всему тексту, который становился всё более «разговорным». Два «я» вели между собой острый, нелицеприятный диалог: Райкин разговаривал с Райкиным.
Впечатление усиливали простота и лаконичность сценического решения. На просцениуме, у самой рампы, на одной стойке крепилось два микрофона. Это была единственная игровая деталь.
Райкин начинал монолог медленно, без выражения, давая возможность публике постепенно включиться. Сначала просто информация: «Нашему театру сорок лет. За это время часто приходилось давать интервью». Нейтральная, слегка заискивающая интонация корреспондента, каких немало приходило к А. И. Райкину: «Как вы себя чувствуете?» — сменялась столь же нейтральным ответом: «Скажите, что я чувствую себя».
Легкий и одновременно требовательный стук в микрофон согнутыми суставами лальцев, как стук в собственную душу: «Аркадий Исаакович!» В «Интервью» словно и нет актерского перевоплощения. Элементы игры уходят на второй план, уступая место лирико-драматическому самораскрытию художника.
Тихий, приглушенный диалог сопровождался легким поворотом головы в сторону то одного, то другого микрофона. Чуть заметно менялась интонация: вопрос — ответ.