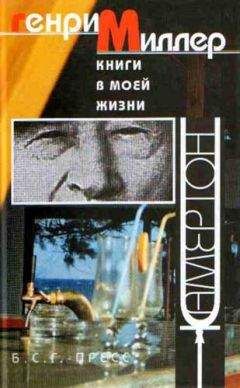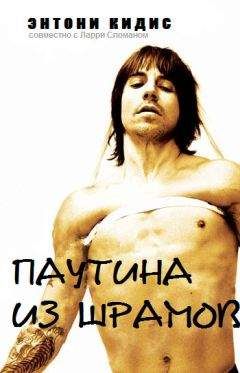«Еще один выдвинутый ими [друзьями] упрек я также нахожу совершенно справедливым: они обвиняли меня в недостатке чувства реальности. Ни мои сочинения, ни мои полотна совершенно не соответствуют реальности, и когда я пишу, то часто забываю о вещах, которые ожидает увидеть образованный читатель в хорошей книге, — и прежде всего мне недостает чувства подлинного уважения к реальности».
Похоже, я неумышленно затронул один из недостатков или одну из слабостей слишком страстного читателя. Как сказал Лао-Цзы, «когда человек, жаждущий обновить мир, приступает к делу, быстро обнаруживается, что этому не будет конца». Увы, даже слишком верно! Каждый раз, когда я чувствую потребность выступить на защиту новой книги — со всей дарованной мне силой убеждения, — я создаю больше работы, больше муки и больше расстройства для себя самого. Я уже говорил о своей мании сочинять письма. Я рассказал, как сажусь за стол, едва закрыв хорошую книгу, и начинаю оповещать о ней весь мир. Вы полагаете, это прекрасно? Быть может. Но это также полнейшая глупость и пустая трата времени. Именно тех людей, которых я стремлюсь заинтересовать — критиков, редакторов и издателей, — меньше всего трогают мои восторженные вопли. Я пришел к выводу, что моей рекомендации вполне достаточно, чтобы редакторы и издатели потеряли к книге всякий интерес. Похоже, любая книга, которой я покровительствую и для которой пишу предисловие или рецензию, обречена[25]. Но здесь, возможно, действует мудрый и справедливый, хотя и неписаный закон, который я бы сформулировал так: «Не вмешивайся в судьбу другого, даже если этим другим является книга». К тому же я все больше и больше постигаю причину этих своих опрометчивых поступков. Должен с грустью признать, что я отождествляю себя с бедным автором, которому стараюсь помочь. (Смешная сторона ситуации состоит в том, что некоторые из этих авторов давно скончались. Они мне помогают, а не я им!) Разумеется, я всегда убеждаю себя следующим образом: «Какая жалость, что такой-то или сякой-то не прочел эту книгу! Какую радость она ему доставит! Какую поддержку!» Я никогда не перестану думать, что книги, которые другие находят самостоятельно, служат так же хорошо.
Именно из-за моего неумеренного энтузиазма по отношению к таким книгам, как «Совершенный коллектив»{27}, «Погоня», «Голубой мальчик», «Подстрочник Кабесы де Вака», «Дневник» Анаис Нин (до сих пор не опубликованный), и другим, многим другим начал я докучать порочному и изменчивому племени редакторов и издателей, которые диктуют миру, что мы должны или не должны читать. В частности, по поводу двух писателей я сочинил столь пылкие и убедительные послания, какие только можно вообразить. Даже школьник не мог бы проявить такого энтузиазма и такой наивности. Помню, что обливался слезами, когда писал одно из этих писем. Оно было адресовано издателю хорошо известных книг в бумажных обложках. Вы полагаете, этого деятеля растрогало бурное изъявление моих чувств? Ему понадобилось полгода, чтобы ответить мне в сухой, хладнокровной и лицемерной манере, которая так характерна для издателей: мол, «они» (всегда темные лошадки) с глубоким сожалением (та же старая песня) пришли к выводу, что мой протеже для них не подходит. В качестве бесплатного приложения они сослались, как превосходно продаются выбранные ими для публикации книги Гомера (давно покойного) и Уильяма Фолкнера. Подтекст понятен: найдите нам таких же писателей, и мы жадно схватим наживку! Это может звучать гротескно, но это истинная правда. Именно так и думают издатели.
Однако же я считаю этот мой порок совершенно безобидным в сравнении с пороками политических фанатиков, мошенников-милитаристов, развращенных крестоносцев и прочих омерзительных типов. Не могу понять, что я совершаю дурного, когда на весь мир признаюсь в своем восхищении и любви, признательности и безмерном уважении к двум ныне живущим французским писателям — Блезу Сандрару и Жану Жионо. Наверное, меня можно обвинить в нескромности, меня можно признать наивным идиотом, меня можно раскритиковать за мой вкус или отсутствие такового; в высшем смысле меня можно обвинить в том, что я «вмешиваюсь» в судьбу других; меня можно разоблачить, как очередного «пропагандиста», но разве этим я причинил какой-нибудь ущерб людям? Я уже не юноша. Если быть точным, мне пятьдесят восемь лет. («Je me nomme Louis Salavin»[26].) Страсть моя к книгам не только не исчезает, но, напротив, растет. Быть может, в экстравагантности моих суждений содержится толика безрассудства. Однако я никогда не отличался тем, что именуют «благоразумием» или «тактом». Я бывал резок — но, во всяком случае, прям и чистосердечен. В общем, если я действительно виновен, заранее прошу прощения у моих старых друзей Жионо и Сандрара. И прошу их отречься от меня, если вдруг окажется, что я выставил их на посмешище. Однако слов своих назад не заберу. Все предшествующие страницы да и вся моя жизнь ведут меня к этому признанию в любви и восхищении.
САНДРАР БЫЛ ПЕРВЫМ ФРАНЦУЗСКИМ ПИСАТЕЛЕМ, отыскавшим меня во время моего пребывания в Париже[27], и последним человеком, с кем я увиделся, покидая Париж. У меня оставалось всего несколько минут, чтобы успеть на поезд до Рокамадура, и я сидел за последним стаканчиком на террасе моей гостиницы у Орлеанских ворот, когда на горизонте возник Сандрар. Ничто не могло бы принести мне большей радости, чем эта неожиданная встреча в последнюю минуту перед отъездом. В немногих словах я рассказал ему о моем намерении посетить Грецию. Затем я вновь уселся и стал пить под музыку его звучного голоса, всегда напоминавшего мне голос моря. В эти немногие последние минуты Сандрар ухитрился сообщить мне массу сведений — с той же теплотой и нежностью, которыми пропитаны его книги. Как почва под нашими ногами, мысли его были пронизаны всевозможными подземными ходами. Я оставил его там сидящим без пиджака, а я ушел, совершенно не задумываясь о том, что пройдут годы, прежде чем я услышу его вновь, совершенно не задумываясь о том, что я, быть может, бросаю последний взгляд на Париж.
Перед тем, как отправиться во Францию, я прочел все, что было переведено из Сандрара. Иными словами, почти ничего. Первое знакомство с ним на его родном языке произошло, когда мой французский был далек от совершенства. Я начал с «Мораважина», а эту книгу никак нельзя назвать легкой для того, кто плохо знает язык. Я читал ее медленно, держа под рукой словарь и перемещаясь из одного кафе в другое. Начал я в кафе «Либерте», на углу улицы Гэте и бульвара Эдгара Кине. Этот день я очень хорошо помню. Если когда-нибудь Сандрару попадутся на глаза эти строки, он будет польщен и, вероятно, тронут тем, что я впервые открыл его книгу именно в этой грязной дыре.
Наверное, «Мораважин» был второй или третьей книгой, которую я попытался прочесть на французском языке. Перечитал я ее гораздо позднее, почти восемнадцать лет спустя. И как же я был поражен, когда обнаружил, что целые абзацы ее навеки отпечатались в моей памяти! А я-то думал, что мой французский был на нуле! Приведу один из отрывков, который я помню столь же четко, как в тот день, когда впервые его прочитал. Он начинается с верхней строки страницы 77 (Грассе, 1926):
«Я расскажу вам о вещах, которые с самого начала принесли некоторое облегчение. В трубах ватерклозета через равные промежутки времени начинала булькать вода… Безграничное отчаяние овладело мной».
(Вам это ничего не напоминает, дорогой Сандрар?)
Тут же мне приходят на ум еще глубже отпечатавшиеся в моей памяти два отрывка из «Ночи в лесу»[28], которую я прочел примерно тремя годами позже. Я привожу их не для того, чтобы похвалиться своей способностью запоминать, а чтобы открыть английским и американским читателям ту сторону творчества Сандрара, о существовании которой они, возможно, даже не подозревают:
«1. Хоть я самый вольный человек из всех живущих на земле, однако признаю, что в мире всегда существует некое ограничивающее начало: свободы и независимости нет, и я их глубоко презираю, но вместе с тем наслаждаюсь ими, сознавая свою беспомощность.
2. Я все больше и больше убеждаюсь, что всегда вел созерцательную жизнь. Я похож на вывернутого наизнанку брамина, который размышляет о себе посреди общей сумятицы и всеми силами дисциплинирует себя, а существование презирает. Или на атлета, боксирующего с тенью, который яростно и хладнокровно наносит удары в пустоту, следя за своим отражением. С какой виртуозной легкостью и мудрым терпением он убыстряет темп! Позднее мы должны научиться столь же невозмутимо сносить наказание. Я знаю, как вытерпеть наказание, поэтому безмятежно взращиваю и разрушаю себя: короче говоря, в этом мире труд приносит радость не тебе самому, а другим (мне доставляют удовольствие рефлексы других людей, а не мои собственные). Только душа, полная отчаяния, может когда-нибудь достичь безмятежности, но, чтобы прийти в отчаяние, вы должны сильно любить и сохранять любовь к миру»[29].