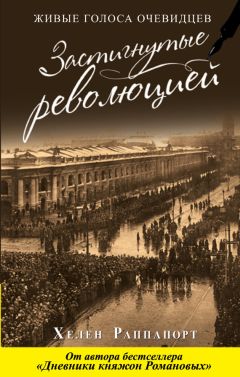В целом, это было впечатляющее мероприятие, многие участники которого в последующем описывали его в своих воспоминаниях, включая Дэвида Фрэнсиса, который охарактеризовал его как «блеск и великолепие умирающей эпохи»{125}. «Вряд ли кто-либо из нас осознавал, что мы являлись свидетелями последнего публичного появления последнего правителя могущественной династии Романовых», – напишет он позже в своих мемуарах; император, казалось, не имел ни малейшего представления о том, что «он находится на краю вулкана»{126}. У Шарля де Шамбрюна сложилось впечатление, что император Николай «был больше похож на какой-то автомат, требующий подзаводки, чем на самодержца, способного подавить любое сопротивление»{127}. Посол Палеолог также выявил признаки утомления и предчувствия беды: «Во всем блестящем и сверкающем царском зале не было ни одного лица, которое не выражало бы беспокойства». Насладившись хересом и сэндвичами и «щедро, не скупясь» дав на чай прислуге, дипломатический корпус отправился обратно в Петроград{128}. Спустя несколько часов Райт пил водку и объедался икрой и другими деликатесами в квартире Армора на Литейном, празднуя Новый год. В последующие дни Райт наслаждался поездками в переполненный Мариинский театр, где он вместе с Мэриэл Бьюкенен смотрел балет Чайковского «Евгений Онегин», бриджем с княгиней Чавчавадзе («достаточно блестящая компания»), ужином в «Кафе де Пари» и катанием на коньках в элитном частном клубе, где представителям дипломатического корпуса «всегда были открыты все двери»{129}. На краю вулкана стоял не только русский царь – это относилось и к бо́льшей части дипломатического корпуса, и к ослепшему сибаритствующему российскому высшему обществу.
Через восемь дней после приема у царя высокопоставленная делегация союзников (британцев, французов и итальянцев) во главе с лордом Мильнером, видным членом военного кабинета Дэвида Ллойда Джорджа, прибыла в Петроград на крупную конференцию, призванную укрепить продолжавшееся сотрудничество с Россией и предотвратить ее выход из войны. Иностранная диаспора выразила надежду на обязательный банкет за казенный счет, который ожидался в честь такого визита, но в день прибытия делегации в столицу 150 000 рабочих вышли на забастовку и организовали шествие в память о массовом убийстве мирных демонстрантов, произошедшем в этот день двенадцать лет назад. Угнетенный рабочий класс Петрограда никогда не забывал о «Кровавом воскресенье» 1905 года. Напряженность в столице росла.
Царский бюрократический аппарат, однако, был больше озабочен размещением гостей в связи с острой нехваткой жилья в Петрограде, которая только обострилась с приездом делегации. На время забрали номера у постояльцев первого этажа переполненной гостиницы «Европейская», однако обнаружилось, что «их некуда переселять и что невозможно найти мест ни за какую цену»{130}. Помпезные официальные банкеты продолжались три недели, вызвав у уставшей столицы некоторый подъем духа. «На какое-то время можно было представить себя в предвоенном Санкт-Петербурге», – вспоминала Мэриэл Бьюкенен. Она оставила одно из наиболее ярких описаний блистательного светского водоворота: «Внезапно город охватило веселье. По улицам проносились экипажи двора с красивыми ухоженными лошадьми и императорскими ливреями малинового и золотого цветов. Перед гостиницей «Европейская», в которой разместились участники делегации, в любое время суток стояла бесконечная вереница автомобилей. Каждую ночь устраивались ужины и танцы, большая царская ложа во время балета была заполнена французскими, английскими и итальянскими мундирами»{131}.
Николай II в очередной раз показался на торжественном ужине в Царском Селе с официальным любезным лицом, предназначенным для публики; сэр Джордж Бьюкенен сидел по правую руку от него. Собравшиеся делегаты конференции дружно участвовали в этом спектакле, делая «бессмысленные замечания по поводу Антанты, войны и победы». Николай, как всегда, был в беседах «расплывчат» и после череды обязательных и тусклых реплик удалился с улыбкой на лице{132}. Императрица, ведущая затворнический образ жизни, как обычно, отсутствовала. Таким образом, дамам, главенствовавшим в петроградской аристократии (в лице великой княгини Марии Павловны и графини фон Ностиц, американской авантюристки, вышедшей замуж за аристократа[33]), была предоставлена возможность организовать для делегации другие развлечения на широкую ногу. При этом графиня фон Ностиц утверждала, что ей было поручено 6 февраля провести прием в своем доме, поскольку «императрица была слишком больна, чтобы принимать гостей у себя во дворце». Это мероприятие оставит у самой графини непреходящее впечатление: «Вечер этого последнего великолепного приема навсегда остался в моей памяти. Мне достаточно закрыть глаза, чтобы вновь увидеть нашу розовую с позолотой гостиную с ее великолепными старыми семейными портретами и изысканными гобеленами, переполненную этими замечательными гостями. Весь двор, сливки петроградского общества, триста его величайших имен, весь дипломатический корпус со своими женами, члены делегации: лорд Мильнер, один из самых известных министров Англии, лорд Брук, сэр Генри Уилсон, лорд Клайв, лорд Ревелсток, сэр Джордж Клерк, герой Франции генерал [Ноэль] де Кастельно, члены итальянской делегации, Гастон Думерг – все они были там в тот вечер»{133}.
Визит делегации подошел к концу, но никто не тешил себя иллюзиями, не надеялся на какие-либо серьезные политические результаты. Роберта Брюса Локхарта «нескончаемая праздничная круговерть» оставила равнодушным; позже он отметил, что «редко когда в истории великих войн столько важных министров и генералов покидали свои страны ради столь бесполезного поручения». Посол Палеолог придерживался того же мнения: конференция затянулась на три «бессмысленные» недели, «все дипломатическое словоблудие не дало никакого практического результата». Он задавался вопросом: какой был смысл для союзников посылать России огромное количество вооружения – «пушек, пулеметов, снарядов и самолетов», – если у нее не было «ни средств доставить его на фронт, ни желания воспользоваться им?»{134}
По признанию лорда Мильнера, он также считал, что эта поездка была пустой тратой времени, что он лишь осознал «неспособность русских» добиться чего-либо и решил, что Россия была обречена – как дома, так и на фронте. Наряду с этим существовало «общее согласованное и обоснованное мнение союзников и России», что «до окончания войны не будет никакой революции»{135}. Морис Палеолог, однако, видел ситуацию по-другому. Когда французские делегаты уже были готовы вернуться домой, он поручил им передать в Париже президенту страны следующее: «Революционный кризис в России уже близок… Каждый день российский народ все более равнодушно относится к войне, настроения анархии распространяются среди всех классов и даже в армии». Октябрьские забастовки на Выборгской стороне, по мнению Палеолога, были «весьма знаменательны», поскольку, когда начались столкновения между бастующими рабочими и полицией, 181-й запасной пехотный полк, направленный для поддержки полиции, фактически повернул оружие против нее. Власти были вынуждены «срочно прибегнуть к помощи казаков, чтобы обуздать мятежников». Палеолог предупредил, что в случае начала восстания «власти не смогут рассчитывать на армию». Он пошел еще дальше: союзники должны быть также готовы к вероятному «дезертирству нашего союзника» – его выходу из войны, что приведет к изменению его роли в удержании Восточного фронта{136}. Сэр Джордж Бьюкенен был теперь до такой степени охвачен нараставшим чувством неизбежной катастрофы, что сообщил в Лондон в Министерство иностранных дел Великобритании: «Россия, по моему мнению, будет не в состоянии встретить четвертую зимнюю кампанию, если теперешнее положение дел сохранится и дальше». Какие-либо серьезные беспорядки, «если их не удастся избежать, произойдут по причинам скорее экономического, чем политического, характера». И начнутся они «не рабочими на предприятиях, а толпами, стоящими на морозе в очередях у продовольственных лавок»{137}.
В феврале количество муки, ежедневно доставляемой в Петроград, сократилось до двадцати одного вагона, тогда как для нормального обеспечения столицы было необходимо 120 вагонов в день. Так называемый белый хлеб «становился все более серым, пока не превратился в несъедобный» – из-за обилия примесей. Бесхозяйственность властей, коррупция и растрата ресурсов были просто чудовищными, это усугублялось плачевным состоянием железных дорог, неспособных обеспечить доставку продовольствия из провинции (где его пока еще было вполне достаточно) в города, которые остро нуждались в нем. Жители столицы были возмущены, узнав, что из-за резкого повышения цен на овес и сено бо́льшая часть черного хлеба, основного продукта питания бедняков, скармливалась 80 000 лошадям Петрограда, чтобы те не умерли с голода: «каждая лошадь съедала черного хлеба на десятерых»{138}. Сахара теперь было так мало, что многие кондитерские магазины пришлось закрыть. Ходили слухи о том, что большое количество продовольствия пропадает, что «миллионы фунтов дешевой говядины из Сибири» брошены гнить на железной дороге: