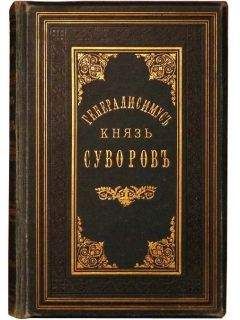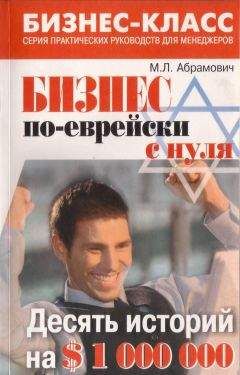Ознакомительная версия.
Как выпускника пехотного училища Унгерна поначалу приставили к пулеметной команде, но вскоре он добился более подходящей для себя должности начальника разведки 1-й сотни. Сотня имела единственный знак отличия – серебряную Георгиевскую трубу за поход в Китай в 1900 году; Россия тогда вместе с Англией, Францией, Германией и Японией подавила восстание ихэтуаней (“боксерское”), в котором Владимир Соловьев увидел первое движение просыпающегося “дракона”, первую зарницу грозы, несущей гибель западной цивилизации.
Полковая жизнь текла заведенным порядком. Офицеры ходили в наряд дежурными по полку, готовили свои подразделения к парадам в табельные дни, руководили стрельбами, следили за перековкой и чисткой лошадей, за хранением оружия, за чистотой казарм, конюшен и коновязей. По утрам с нижними чинами обычно занимались урядники, офицеры вели послеобеденные занятия в конном строю или “пеше по-конному”. Другие обязательные предметы: гимнастика, рубка и фехтование, укладка вьюка, “прикладка”, полевой устав. Еженедельно проходили “беседы о войне”.
Новая война с Японией так и не началась, возможностей совершать подвиги в Благовещенске оказалось не больше, чем в Даурии. На быструю карьеру рассчитывать не приходилось, очередной чин сотника Унгерну присвоили в установленные сроки, на четвертом году службы. Гонимый гарнизонной скукой, в 1911 году он отпрашивается в полугодовой отпуск и уезжает в родной Ревель. Между тем в Монголии, на окраине доживающей последние месяцы Поднебесной Империи, назревают события, в которые ему предстоит вмешается дважды – через полтора года, а затем еще семь лет спустя.
1
Пржевальский сравнил жизнь монгольских кочевников, когда-то покоривших полмира, с потухшим очагом в юрте. Позже один из русских свидетелей пробуждения потомков Чингисхана и Хубилая заметил, что великий путешественник ошибался, как ошибся бы случайный путник, войдя в кибитку монгола и по отсутствию в ней огня заключив, что очаг уже потух. Тот, кто живет среди кочевников, знает: “Стоит только умелой руке хозяйки, вооруженной щипцами, сделать два-три движения, как из-под золы появляется серый комок. Насыплет она на него зеленоватого порошка конского помета, подует на задымившийся порошок, и вспыхнет огонек, а если подбросить на очаг несколько кусков аргала (сухой навоз. – Л.Ю.), то перед удивленным взором путника блеснет яркое ровное пламя, ласкающее дно чаши, в которой закипает чай”.
К началу XX века сотни, а спустя десятилетие – тысячи русских крестьян-колонистов, купцов и промышленников проживали в Халхе, еще при первом императоре маньчжурской династии Цин подпавшей под власть Пекина[19]. Были проведены скотопрогонные тракты, возникли кожевенные заводы, шерстомойки, фактории, ветеринарные пункты; сибирские ямщики стали полными хозяевами на 350-верстной дороге между русской Кяхтой и монгольской столицей – Ургой, но все это не шло ни в какое сравнение с масштабами китайской колонизации. Туземное население Халхи не достигало полумиллиона, и нарастающий с каждым годом поток ханьских переселенцев угрожал самим основам кочевой жизни. Здесь могла повториться трагедия Внутренней Монголии, где распахивались пастбища, посевы чумизы и гаоляна оттесняли кочевников в безводные пустыни. Их стада гибли, а сами они превращались в грабителей и бродяг.
В Халхе этот процесс только начался, зато грозил пойти ускоренными темпами. Хошунных князей лишали власти в пользу пекинских чиновников; законные и, главное, незаконные поборы китайских властей перешли все мыслимые пределы. “Под лапами китайского дракона глохнет дух предприимчивости, убивается стремление к возрождению национальной культуры. Все обрекается мертвящему застою”, – вполне в духе Владимира Соловьева, ненавидевшего всяческую “китайщину”, делился своими наблюдениями один из тогдашних русских путешественников по Синьцзяну. По его словам, единственно “страхом немилосердного возмездия, каковое постигло поголовно истребленных джунгар”, Пекину удается удерживать монголов “в рабском повиновении”.
При торговых операциях китайским коммерсантам не составляло труда обмануть простодушных номадов[20]. Процветало ростовщичество; в русском дальневосточном жаргоне выражение “евреи Востока” было обычным обозначением китайцев. Фактически все монгольское население, от аймачного хана-чингизида до последнего бедняка-арата, оказалось в долговом рабстве у китайских фирм. Однако покорность монголов казалась безграничной, неспособность к сопротивлению – фатальной, как у их любимейшего животного, верблюда, который при нападении волка лишь кричит и плюется, хотя мог бы убить его одним ударом ноги. Пржевальский писал, что всякая тварь может обидеть это неприхотливое несчастное создание, даже птицы расклевывают ему натертые седлом “адины между горбами, а он только “жалобно кричит и крюком загибает хвост”.
Правда, еще в годы Русско-японской войны во Внутренней Монголии начал действовать отряд князя Тогтохо-гуна. Петербургские и сибирские газеты именовали его “партизанским”, хотя от заурядной шайки хунхузов он отличался не больше, чем капер от пирата – грабили преимущественно китайских поселенцев. Несколько удачных стычек с правительственными войсками мгновенно сделали Тогтохо национальным героем со всеми присущими этому званию атрибутами, какими награждает своих любимцев народ, не разучившийся творить мифы – чудесной силой, вездесущностью, неуязвимостью для стрелы и пули.
Россия тайно снабжала повстанцев ружьями устаревших систем, а после того, как Тогтохо потерпел окончательное поражение, предоставила ему убежище в Забайкалье. Русские доброжелатели пафосно призывали монголов “сбросить с себя маразм пасифизма, привитого им желтой религией”, но мало кто верил, что это произойдет в сколько-нибудь ближайшем будущем. Скрытый под золой огонь вспыхнул неожиданно даже для тех европейцев, кто годами жил в Халхе.
Синьхайская революция в Китае свергла маньчжурскую династию, все императоры которой покровительствовали буддизму и сами считались перерождениями бодисатвы Маньчжушри. Как предсказывал Бадмаев, это повлекло за собой распад Поднебесной Империи: Тибет и Монголия, объяснив свое подчинение Пекину личным договором с императором Канси и его преемниками, отказались признать власть Китайской Республики. Буддизм здесь становится знаменем национального возрождения.
В декабре 1911 года князья Внешней Монголии провозглашают ее независимость. Учреждается монархия, ургинский первосвященник Богдо-гэген VIII Джебцзун-Дамба-хутухта торжественно восходит на престол. Со дня его коронации начинается новое летоисчисление: Халха вступает в “эру Многими Возведенного”, то есть всенародно избранного, монарха – Богдо-хана (от монг. богдо – священный).
Ознакомительная версия.