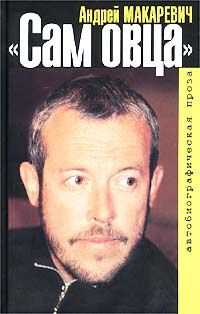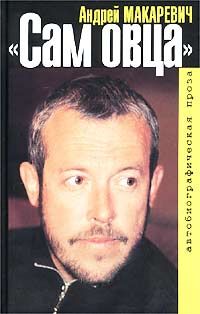Утром все уходили на работу, молодая моя деревенская няня убегала пококетничать с солдатами, я оставался один (что мне очень нравилось) и играл во врача. Лечить приходилось медведя – больше было некого. На протяжении года, наверно, я прослушивал его, назначал инъекции и сам же выполнял предписание. (Если бы мне доверили ланцет, я бы, конечно, вскрыл зверя и он прожил бы еще меньше.) Вакцина представляла собой воду – в чистом виде либо подкрашенную акварелью. Уколы делались по-настоящему, иногда по нескольку раз в день. В результате опилки распухли от влаги, медведь заболел внутренним гниением, и продолжающиеся инъекции только ускорили его конец.
Советских яслей я так и не хлебнул – спасали деревенские нянечки. А вот в детский сад меня все-таки отправили – по-моему, не удавалось найти очередную, а все предыдущие выходили замуж с пугающей скоростью. Помню, пришла наниматься какая-то пожилая тетка, и очень она мне не понравилась. Я не мог объяснить, чем именно, и вышел даже скандал с мамой – она считала, что я капризничаю. А прав оказался я – тетка исчезла на следующий день с нашими чайными ложечками.
Я помню, как меня впервые вели в детский сад. Точнее, меня несли. Несла меня баба Маня, которая работала судебно-медицинским экспертом и патологоанатомом на Петровке, 38, характер имела железный и в нашем доме была безусловным командиром. Не исключено, что именно она решила отправить меня в детсад – приучать к общественной жизни. Спорить с ней было бессмысленно, тем не менее я ревел всю дорогу, умолял не отдавать меня в детсад и, как только баба Маня пыталась опустить меня на землю, разворачивался и бежал в сторону дома.
Я вообще не мог оторваться от дома до тринадцати лет – в пионерлагере я прорыдал весь месяц. Потом исполнилось четырнадцать, и вдруг все прошло. Странно, что это была тоска не по родителям, а именно по дому – находясь дома, я, например, очень любил оставаться один, пока все были на работе, можно было лазить по взрослым ящикам в комоде, смотреть всякие интересные штуки. Говорят, собаки сильнее скучают по дому, чем по хозяевам.
Детсад находился неподалеку – прямо у Александровского сада, в доме, где в свое время проживала Инесса Арманд. Внутри были высокие сводчатые потолки, воспитательница Жанна Андреевна и неправильный запах. Пахло чем-то медицинским и очень недомашним.
Чем-чем медицинским? Карболкой, конечно, чем же еще?
Этот запах и отчаяние оттого, что я должен слушаться весь день не маму и папу, а какую-то Жанну Андреевну, преследовали меня все полгода, пока меня туда водили.
По истечении полугода из детсада меня вытурили. И вот почему.
Больше всего на свете я тогда ненавидел есть. Наверно, потому, что меня все время нещадно пичкали чем-то полезным. В доме у нас никогда не относились к еде как к удовольствию – подход был исключительно медицинский, готовили по необходимости и, в общем, невкусно. (Исключение составляли Новый год и дни рождения, когда вертелись всякие салаты – обязательный оливье, лосось из банки с рисом и майонезом, свекла с чесноком, печень трески с яйцом и луком, и было очень здорово наутро после гостей залезть в холодильник и приобщиться ко вчерашнему взрослому празднику. Но бывало это три раза в году.)
Пытаюсь вспомнить повседневную нашу еду. Это прежде всего запеканка: вареные макароны – серые, толстые, с дырками – клались в глубокую сковороду, заливались яйцами и запекались в духовке. Елось как в горячем, так и в остывшем виде. В горячем еще ничего. Гречневая каша с молоком: если в молоке пенки – это смерть. А как их может не быть, если холодную кашу заливали горячим молоком? Ну, еще картошка, тушенная до состояния полной размазни с какими-то мясными обрезочками, и суп с крупой на дне. В общем, правда гадость.
Мама со своим сливочным маслом, няня с творогом в одной руке и будильником в другой – все это было ужасно. Но это все-таки был дом – с индивидуальным подходом (ко мне) и с человеческим началом. А тут я попал в советское учреждение, где все должны были быть как все. Прием пищи превратился во что-то вообще невообразимое.
Во-первых, пища была нехороша. Не в смысле, скажем, несвежести – она была приготовлена с большой нелюбовью к тем, кто ее должен был есть. Обязательной дозой рыбьего жира поливали второе (не давать же каждому с ложечки, в самом деле). От запаха рыбьего жира меня рвет до сих пор.
Со сливочным маслом поступали еще лучше – его клали каждому в стакан кофе с молоком или какао (странно, что не в чай), оно там таяло и плавало сверху прозрачной желтой блямбой. Добраться до кофе, не хлебнув при этом масла, было невозможно. Вы хорошо представляете себе вкус этого продукта? Скоро я насобачился быстро, пока Жанна Андреевна отвернулась, вычерпывать масло ложкой и сливать под стол (ложку надо было незаметно оставить, когда убирали тарелки от супа).
С котлетами было сложнее. Сброс их под стол не проходил – за этим делом меня поймали, я был наказан, и после этого следили за мной пристально (насколько это было возможно в условиях – одна воспитательница на двадцать детей). И тогда я придумал и отработал другую тактику. Я поддевал ненавистную котлету на вилку и резким движением отправлял ее в полет через голову – на шкаф, который стоял за моей спиной. Шкаф был очень высокий, и даже Жанна Андреевна не могла заглянуть на его крышу. Операция по метанию котлеты занимала доли секунды, и не промахнулся я ни разу.
Где-то через месяц в столовой запахло покойником, но долго еще работницы детсада не могли понять, в чем дело.
Избавившись от котлеты, я обреченно сидел над макаронами, с которыми ничего уже нельзя было поделать: всех уводили на мертвый час, а я должен был очистить тарелку. Я набивал макароны за щеки, как хомяк, и запросто мог прийти вечером домой с полными от обеда защечными мешками.
Иногда, оставаясь в столовой один, я пел – от ужаса и безысходности. Благодаря высоким сводам в столовой была потрясающая акустика – как в церкви.
Все это не могло не закончиться. На шкафу обнаружили склад позеленевших котлет, меня вычислили, я был с позором изгнан из детского сада, и мучениям моим пришел конец.
До школы оставался целый год, и меня отдали «в группу». Это было частное предприятие, содержала его милейшая еврейская старушка Мария Моисеевна.
Выглядело это так. Утром нас, детей (а было нас человек семь-восемь), родители приводили на Гоголевский бульвар, где Мария Моисеевна ждала нас, сидя на лавочке. Каждый приносил с собой бидончик с обедом. Мы гуляли на бульваре до полудня, потом Мария Моисеевна вела нас к себе домой (она жила в большой старой квартире на Арбате, ходу было пять минут). Там она разогревала каждому его обед, кормила нас и укладывала на мертвый час – у кого была кровать, у кого – кушетка, у кого – раскладушка. В пять часов мы вставали, пили чай, и Мария Моисеевна выводила нас на бульвар – к той же лавочке, откуда нас и разбирали спешащие с работы родители.