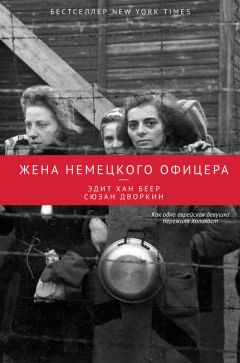Почти пять лет я отдала изучению юриспруденции, конституций, правонарушений, психологии, экономики, политологии, истории, философии… Я писала работы, ходила на лекции, анализировала дела, трижды в неделю занималась с судьей, чтобы подготовиться к экзамену. А меня к нему просто не допустили.
У меня подкосились ноги. Я оперлась на ее стол.
«Но… но… это последний экзамен перед выпуском!»
Она отвернулась. Я чувствовала, как искренне она рада, что сумела разрушить мою жизнь. У этого чувства был запах, честное слово, был – оно пахло потом и животной страстью.
Помогая служанке выносить матрасы во двор, бабушка заработала грыжу. Ей понадобилась операция, и операции этой она не пережила.
Дедушка так в это до конца и не поверил. Он все время оглядывался, явно ожидая где-нибудь увидеть жену, а потом с тяжелым вздохом вспоминал, что ее нет.
Сразу после смерти бабушки в Эвиан-ле-Бене, шикарном спа-курорте во Французских Альпах неподалеку от Женевского озера, прошла конференция, на которой решалась судьба австрийских евреев. Эйхман отправил несколько представителей нашей общины, чтобы они обратились к правителям других стран с просьбой выкупить нас у нацистов. «Неужели вы не хотите спасти высокообразованных, культурных, веселых австрийских евреев? – вопрошали они. – Как насчет 400 долларов за человека? Дорого? Может быть, 200?»
За нас не дали ни цента.
Никто, даже США, не захотел нас выкупить. Диктатор Доминиканской Республики, Трухильо, пригласил несколько человек в свою крошечную, нищую страну, надеясь, что евреи принесут ей процветание. Я слышала, так и вышло.
9 ноября 1938 года мне не пришлось идти к Деннерам, потому что Ханси получила билет для эмиграции в Палестину. Мы провожали ее на вокзал со смесью радости и сожаления. Нацисты разрешали каждому взять один чемодан и один рюкзак. Ханси уложила с собой хлеб, вареные яйца, пирог, сухое молоко, белье, носки, обувь, плотные брюки, толстые рубашки, одно платье и одну юбку. Женственность и ее атрибуты сильно потеряли в цене. Женственность, как цветы и фрукты, слишком быстро портится и стоит слишком дорого, а пользы от нее в такие времена, конечно, нет.
Мы с мамой и Мими плакали, но Ханси была спокойна. «Приезжайте, – сказала она нам. – Уезжайте из этой проклятой страны. Уезжайте при первой же возможности».
И вот ее увез поезд. Ханси, как и остальные беженцы, высунулась из окна, чтобы помахать нам на прощание. Она не улыбалась.
Чтобы заплатить невозможные деньги, которых нацисты требовали за билет, мама сняла со счета все, что там было. Мы с Мими хорошо знали, что на выкуп для нас денег нет. «Но у вас есть мужчины, – сказала мама, крепко нас обнимая. – Они вас спасут. Ханси была для этого слишком мала».
По пути домой мы услышали странный шум. На горизонте рдели отблески пламени. В городе что-то горело. На улицах никого не было. Мимо громыхали нацистские машины, полные счастливых молодых людей, а пешеходов не было. Ни одного.
В последние месяцы мы научились распознавать опасность издалека. Мы с Мими схватили маму за руки и побежали. Дома нас ждала чем-то очень обеспокоенная фрау Фалат, наша консьержка. «Они нападают на еврейские магазины, – сказала она. – Одна из синагог горит. Сегодня на улицу ни ногой».
Прибежал запыхавшийся Мило Гренцбауэр. «Простите за беспокойство, фрау Хан, – вежливо поздоровался он, – но мне необходимо сейчас остаться у вас. У моего брата есть друг в СС. Он сказал, что нацисты забирают молодых евреев и куда-то их увозят, не знаю куда, в Дахау, может, в Бухенвальд. Он сказал, что нам с братом нельзя сегодня оставаться дома».
Он упал в одно из кожаных кресел. Мими, дрожа, сидела у него в ногах.
С улицы доносились крики, визг тормозов, звуки разбитого стекла. Около десяти к нам присоединился наш двоюродный брат Эрвин, студент-медик. Он пришел белый как мел и весь мокрый от пота. По пути из лаборатории он наткнулся на толпу у синагоги, развернулся и побежал к нам, как раз когда синагога загорелась. Он видел, как евреев избивают и куда-то увозят.
После него пришел Пепи. В доме было три молодых человека, но он один был спокоен, опрятен и невозмутим.
«Вот увидите, толпа скоро заскучает и разойдется, – сказал он. – Это вопрос времени. Завтра они будут мучиться похмельем, а мы увидим, сколько окон разбито. Они протрезвеют, мы поставим новые окна, и все будет как раньше».
Мы все в шоке смотрели на него. Он что, сошел с ума?
«А ты умеешь держать лицо, Пепи, – улыбнулась мама. – Из тебя выйдет великолепный юрист».
«Мне просто не нравится, когда моя девочка грустит, – сказал он и нежно разгладил мой лоб. – Эта морщина на ее милом лобике должна исчезнуть».
Он обхватил меня и утянул к себе, на диван. В эту секунду я восхищалась Пепи Розенфельдом. Мне казалось, что его добрый нрав и бесстрашие каким-то образом вытащат нас из этого ада.
И тут пришла его мать, Анна. «Ты что, идиот? – завизжала она. – Я половине города взятки даю, чтобы сделать тебя христианином, чтобы тебя убрали из списков общины! А ты что делаешь, когда евреев увозят, а их магазины сжигают? Притащился в их логово и сидишь тут с ними! Уходи от них! Это не твой народ! Ты христианин, католик, австриец! А они – чужие! Их все ненавидят! Ты у меня больше ни минуты с ними не проведешь!»
Она бешено уставилась на меня. «Отпусти его, Эдит! Если ты его любишь, отпусти! Если ты этого не сделаешь, они его у меня заберут и кинут в тюрьму, моего единственного мальчика, моего сына, мое сокровище…» Она стала всхлипывать.
Мама, всегда сочувствующая людям, предложила ей бренди.
«Так, мама, – сказал Пепи. – Пожалуйста, прекрати скандалить. Мы с Эдит скоро отсюда уедем. Мы собираемся уехать в Англию. Или в Палестину».
«Что? Вот что вы задумали, да? Бросить меня тут? Оставить меня, бедную вдову, совсем одну? Скоро начнется война!»
«Не надо тут про «бедную вдову», – оборвал ее Пепи. – Никакая ты не вдова. У тебя есть муж, Хофер. Он о тебе позаботится».
Анна не ожидала, что он вот так при всех раскроет ее тайну. Это окончательно ее разъярило. «Если ты меня бросишь, если убежишь со своей еврейской сукой, я покончу с собой!» – крикнула она и бросилась к окну. Она залезла на подоконник.
Пепи крепко схватил ее полное, тяжелое тело и, похлопывая мать по спине, стал повторять: «Тихо, тихо…», пытаясь ее успокоить.
«Пойдем домой! – ныла она. – Пойдем отсюда, от этих людей! Бросай эту девчонку, ты из-за нее погибнешь! Пойдем домой!»
Он посмотрел на меня из-за широкой спины матери, и в его глазах я наконец поняла, с чем он жил все это время, почему так и не согласился по-настоящему уехать. Я поняла, что Анна каждый день давила на него, кричала, плакала, угрожала самоубийством, что она схватила его и посадила на толстую железную цепь, которую она считала любовью.