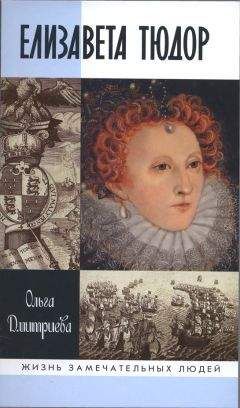В Хэтфилд-хаус, где Елизавета жила в то время, отправили некоего Р. Тирвитта, чтобы допросить принцессу и добиться от нее правды. Допросы затянулись на много дней. Если прежде вопрос о ее отношениях с лордом-адмиралом вызывал у Елизаветы краску стыда и естественное смущение, то теперь он рождал леденящий страх. Впервые принцесса оказалась так близка к эшафоту, куда на ее глазах всходили очень многие. На все вопросы Тирвитта она отвечала упорным «нет», периодически разражаясь слезами, но он не верил ее нервическим припадкам, считая их, возможно не без оснований, игрой. Ее казначея Томаса Перри и Кэт Эшли бросили в Тауэр, добиваясь признания, что они служили посредниками между Елизаветой и Сеймуром. Те отрицали все. Тирвитт, сам измотанный допросами, доносил лорду-протектору, что Елизавета, по его мнению, виновна и что-то скрывает, но от нее трудно добиться истины, ибо «у нее очень острый ум и ничего невозможно вытянуть из нее без больших ухищрений». Он подталкивал принцессу к тому, чтобы переложить вину на приближенных, которые якобы плели интриги за ее спиной, но она не предала верную Кэт Эшли. В ней взыграло упрямство, достойное отца, и сама будучи на волосок от смерти, она тем не менее послала протектору Сомерсету дерзкое письмо, требуя вернуть ей любимую воспитательницу, вырастившую ее. «Она была со мной в течение долгого времени, многие годы и положила немало сил и трудов, чтобы воспитать меня в честности, поэтому мои обязанность и долг вступиться за нее, ибо святой Григорий учит, что мы более привязаны к тем, кто нас вырастил, чем к собственным родителям. Родители делают только то, что естественно для них, то есть приводят нас в этот мир, те же, кто воспитывает нас по-настоящему, дают нам возможность чувствовать себя хорошо в нем!» Подписывалась «подследственная» с истинным достоинством королевской дочери, несмотря на то, что обращалась к тому, от кого зависела ее судьба: «Ваш убежденный друг, насколько это в моих силах».
Когда страсти утихли и ее наконец оставили в покое, так ничего и не добившись, Елизавета снова слегла в полном нервном истощении. Но труднейший экзамен, где ей пришлось проявить и стойкость, и изворотливость, и хитрость, она выдержала, в первый раз отстояв свою жизнь. Она двигалась среди опасностей ощупью, сама выбирая путь и не имея наставников в искусстве политики, на роль которых не годились верные слуги вроде Перри или Эшли, их она переросла (Елизавета, кстати, извлекла обоих из Тауэра, отстояв их невиновность). Скорее ее подлинными советниками были Цицерон и Тит Ливий, вооружившие молодую принцессу бесценными знаниями о природе политики и прецедентами из истории великого Рима, изобиловавшей жестокой борьбой. Они научили ее вести полемику, красноречиво защищаться и убедительно атаковать, античные примеры отточили стиль ее писем, заострили аргументацию.
История и теология по-прежнему оставались ее страстью. В минуты испытаний Елизавета, как и прежде, не отпускала от себя Роджера Эшама, находя в общении с ним успокоение. Наставник восхищенно писал другу о своей ученице: «Ее ум лишен женской слабости».
Елизавете импонировали комплименты такого рода. Спустя год, когда ей исполнилось восемнадцать, она сама со своеобразной гордостью написала брату Эдуарду: «Моя внешность, быть может, и заставит меня покраснеть, что же касается ума — его я не побоюсь явить».
Эта самооценка весьма примечательна, ибо в ней звучит весьма необычное для молодой девушки тщеславие: она как будто встает на расхожую в то время точку зрения, согласно которой глубокий ум — не женское качество, ибо женщины неумны, кокетливы, склонны больше думать о внешнем. Елизавета как бы отстраняется от них, все ее интересы и пристрастия больше роднят ее с мужчинами, которым присущи глубина суждений и обстоятельность. Откуда эта небрежность и легкий скептицизм по отношению к собственной женской природе? В более зрелые годы она поймет, что в обществе, где доминируют мужчины (при условии, что они соблюдают правила куртуазной игры), удобно быть женщиной, занимающей высокое положение, и научится искусно пользоваться всем арсеналом типично женских средств, чтобы повелевать ими, — будет то обворожительно-капризной, то величественно-недоступной. Она перестанет краснеть за свою внешность, напротив, полюбит румяна. Но тем не менее Елизавета всегда будет гордиться тем, что отличало ее от большинства женщин, — недюжинным умом, эрудицией, умением вершить государственные дела, способностью в минуту опасности надеть доспехи и, подобно Жанне д’Арк, повести за собой нацию, тем, что она может не хуже любого мужчины скакать верхом без устали и на охоте хладнокровно рассечь кинжалом глотку загнанному зверю.
Это причудливое сочетание мужественности и женственности, составлявшее ее неповторимую индивидуальность, уходило корнями все в тот же ранний период формирования ее личности. Современный психоаналитик, возможно, нашел бы объяснение ее характеру в предопределенности, заданности его «родительской матрицей». Действительно, идеализированный образ матери, рассказы о ее изяществе, элегантности, прекрасных манерах, не позволят Елизавете игнорировать важность этих качеств и заставят развивать их в себе. Но остальные черты, присущие Анне Болейн, — ее интеллект, энергия, честолюбие в тогдашнем понимании делали ее мать непохожей на остальных женщин, относясь скорее к мужским прерогативам, и именно эти качества стали образцом для дочери. Ее отец Генрих был ярким воплощением мужского начала. Все в жизни дочери и сама ее жизнь зависели от расположения этого могучего гиганта, порой доброго, порой ужасного, как чудовище из страшной сказки. Он был одновременно притягателен и опасен, ему надо было понравиться, заслужить его любовь и одобрение. Елизавета стремилась к этому всеми силами. Этого можно было достичь чисто женскими средствами — манерничаньем и кокетством, но девочка не превратилась в жеманницу. Она рано поняла, что с первого дня своей жизни вызывала у него разочарование и что причиной этого являлся именно ее пол. Поэтому с детства она инстинктивно пыталась преуспеть в неженских занятиях, и прежде всего в научных штудиях. Ничто так не радовало отца, как ее успехи на этом поприще. Елизавета не могла не видеть, что ее пол стал причиной гибели ее несчастной матери и ее собственных унижений. Родись она мальчиком, она не была бы принцессой-бастардом, а носила бы корону Англии. Наконец, она была бы гарантирована от попыток все новых и новых Сеймуров воспользоваться ею для воплощения собственных авантюрных планов.
Кто знает, что сыграло большую роль — «родительская матрица» или собственный печальный опыт, но в свои восемнадцать лет Елизавета предпочитала занятия древними языками развлечениям и флирту. По крайней мере достоверно одно: случай с лордом-адмиралом укрепил ее в уверенности, что быть женщиной и наследницей престола, руки которой добиваются, — не столь уж приятно и весьма небезопасно.