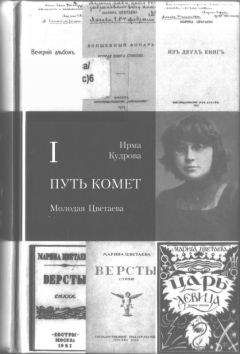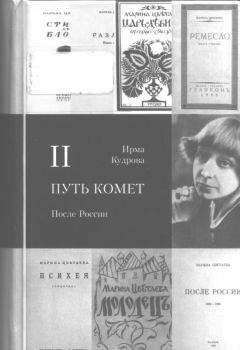Однако не только литература.
«Он никогда не был тем, чем казался себе и нам, — писал Белый, — …лишь поздней открылось в нем подлинное амплуа: передразнивать интонации, ужимки, жесты, смешные стороны своими показами карикатур на Андреева, Брюсова, Иванова, профессора химии Каблукова, профессора Хвостова, он укладывал в лоск и стариков и молодежь… он был великим артистом, а стал — плохим переводчиком, бездарным поэтом и посредственным публицистом… Он проспал свою роль — открыть новую эру мимического искусства…»
Несправедливо. Эллис обладал больше чем мимическим даром, ибо мимы бессловесны. Эллис же был еще и импровизатор, и талантливейший литературный пародист! Федор Степун вспоминал, что живые портреты Эллиса никогда не были скучно-натуралистическими подражаниями. Остроумнейшие его шаржи в большинстве случаев и разоблачали, и казнили имитируемых людей. Исступленный ненавистник духа благообразно-буржуазной пошлости, он вкладывал в уста своих жертв блестящие саморазоблачающие тексты, превращавшие их в карикатуры… Мало того. Непонятной чарой Лев Львович вовлекал в свое действо всех, в том числе зрителей, решительно к тому не расположенных. Сеанс имитации действовал на присутствующих еще и гипнотически!
Цветаевская поэма «Чародей» дает великолепно емкий и яркий портрет: Эллис здесь не только фантазер, но и живой человек — вспыльчивый, переменчивый, экзальтированный:
Жерло заговорившей Этны —
Его заговоривший рот.
Ответный вихрь и смерч, ответный
Водоворот.
Здесь и проклятья, и осанна,
Здесь всё сжигает и горит.
О всем, что в мире несказанно,
Он говорит.
Нас — нам казалось — насмерть раня
Кинжалами зеленых глаз,
Змеей взвиваясь на диване!..
О, сколько раз
С шипеньем раздраженной кобры
Он клял вселенную и нас, —
И снова становился добрый…
Почти на час…
Цветаев вернулся из Каира раньше, чем предполагалось, из-за очередных неприятностей в Румянцевском музее.
И приходы Эллиса в «шоколадный дом» теперь уже не так часты: отношение Ивана Владимировича ко Льву Львовичу двойственно. Андрей Белый утверждает в мемуарах, что профессору с самого начала казалась опасной дружба дочерей с этим «декадентом». А кроме того, присовокупляет мемуарист, Иван Владимирович был в то время влюблен в особу, отдававшую предпочтение Эллису. Не была ли то Лидия Александровна Тамбурер? Этого мы уже не узнаем. Но справедливости ради надо сказать, что и без того Цветаеву трудно было радоваться такому гостю. Чего стоила одна манера «декадента» не помнить ни времени, ни приличий: он запросто мог засидеться (и засиживался!) до утра, чистосердечно забыв, где он и кто рядом с ним…
3
Однако настоящий скандал разразился позже.
В самый разгар лета 1909 года с Эллисом случилась беда. Он был «пойман с поличным» — как писали московские газеты — в момент, когда вырезал страницы из книг в зале Румянцевской читальни! На вопрос — зачем он это делал, Лев Львович простодушно отвечал, что пишет книгу и экономит время: вместо того чтобы переписывать, вырезает нужные ему цитаты.
Этот его ответ был опубликован в одной из газет — без пояснения, что вырезки-то Эллис, по его собственному твердому убеждению, делал не из библиотечных, а из своих книг! Ибо ему было разрешено приносить с собой в библиотеку портфель с книгами. Легко предположить, что то была чистая правда, и преступник даже не предполагал, что совершает преступление. Во всяком случае, в этом был уверен Андрей Белый, отрицавший саму возможность злонамеренности со стороны Льва Львовича.
Во всей этой истории Цветаев как директор Румянцевского музея вел себя совсем не так агрессивно, как об этом повествует в своих мемуарах Белый. Последний приписывает Ивану Владимировичу враждебность, продиктованную дружбой Эллиса с его дочерьми. Но это всего лишь предположение. Другое дело, что вся эта история была в высшей степени некстати для Цветаева на фоне продолжавшихся бесконечных ревизий в музее. Администрация музея не намеревалась доводить конфликт с Эллисом до публичного разбирательства. Но в конце концов вынуждена была это сделать, подстегнутая ядовитой заметкой в «Московских ведомостях» некоего газетчика, скрывшегося за псевдонимом.
В результате август и сентябрь стали для Льва Львовича временем глубочайшего отчаяния. Никто не хотел его слушать. Все друзья оказались вне города (время было самое дачное), и Эллис увидел себя покинутым в труднейшую минуту своей жизни. «Я погибаю», «мои переживания удлиняются до астрологических и геральдических схем. Это ужасно», — пишет он в эти недели Эмилию Метнеру.
На 28 сентября 1909 года было назначено судебное разбирательство.
Эллис дисциплинированно явился в камеру Александровского участка к мировому судье Халютину в сопровождении своего поверенного. Но со стороны обвинителя не пришел никто. И судье ничего не оставалось, как дело прекратить.
Только две газеты — «Русское слово» и «Голос Москвы» — сочли нужным сообщить читателям о том, что Эллис возместил ущерб за испорченные книги и принес извинения администрации музея.
Летом этого года Марина была в Париже и до поры до времени ничего не знала о туче, собравшейся над головой ее старшего друга.
Она нашла себе жилье, разумеется, на улице Бонапарте; посещала лекции по старофранцузской литературе, писала стихи и очень грустила. Париж показался ей прозаичнее, чем она его себе представляла. Такое будет повторяться с ней раз за разом; неуемная фантазия, мощное воображение, всё всегда опережающие, снимают сливки со всех ее реальных радостей. Ей и здесь грустно и одиноко.
Шумны вечерние бульвары,
Последний луч зари угас,
Везде, везде все пары, пары,
Дрожанье губ и дерзость глаз…
Впрочем, грусть на этот раз имеет оправдание. Этой осенью Марине исполнится семнадцать, и то был естественный бунт юной души, добровольно заточившей себя в книжный монастырь…
О беде, нависшей над Эллисом, она узнала из письма Аси. Вознегодовав на преследователей, Марина тут же написала старшему другу горячее письмо. «Вас не смеют судить, и если бы Вы раскрали 1/2 музея, то все равно они не смеют вас судить!» — пишет Марина Эллису. И собирается немедленно возвращаться в Россию, чтобы защитить Льва Львовича. «Если с Вами что-нибудь сделают, я застрелюсь!» — эти строки из ее письма Эллис в ближайшие дни перескажет Андрею Белому, признаваясь, что тронули они его «до невыразимости».