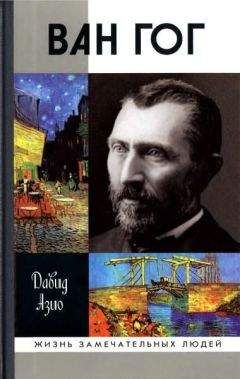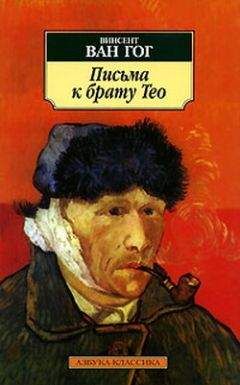Художественная культура, которую он приобрёл за эти четыре года, приумножалась и подкреплялась знанием литературы. Читавший на трёх языках, Винсент регулярно ходил в библиотеки, одалживал книги у знакомых и запоем читал сочинения многих авторов, нередко на языке оригинала. За годы, проведённые в Гааге, он в свободное от работы время продолжил своё образование. Это были его «университеты».
В эти же годы началась его удивительная дружба на всю жизнь с Тео, который приехал навестить обожаемого старшего брата. Они вдвоём прошли под дождём пешком до мельницы в Рейсвейке, выпили там молока и отправились обратно. По пути они говорили обо всём на свете и о своём будущем. Возникшая тогда между ними обоюдная привязанность оказалась сильнее обыкновенных уз кровного родства. Они поклялись дружить и, что бы с ними ни случилось, помогать друг другу до самой смерти. Винсенту в то время было девятнадцать, а Тео пятнадцать лет. Эта клятва предполагала, что именно Винсент придёт на помощь младшему брату, но судьба распорядилась иначе… И ещё они договорились писать друг другу, и переписка их, хотя и с перерывом, продолжалась вплоть до смерти Винсента. Таким образом, клятве двух братьев мы обязаны перепиской, не имеющей аналогов в истории мирового искусства. «Эта дорога в Рейсвейк остаётся для меня одним из самых чудесных воспоминаний. Когда-нибудь у нас будет возможность побыть вдвоём, и мы снова поговорим о ней» (6).
Отзывы о профессиональных достоинствах молодого продавца-полиглота дошли до высшего руководства фирмы Гупиль. Дядя Сент убедился в правильности своего решения и уже видел в Винсенте наследника. Родители Винсента были счастливы: их сына считали восходящей звездой европейского художественного рынка, и было принято не вполне обдуманное решение отправить двадцатилетнего юношу в Лондон, где нужны были способные сотрудники для открытия там представительства фирмы. Когда Винсент получил это назначение, его место в Гааге занял брат Тео, хорошо зарекомендовавший себя на службе в Брюсселе.
Но Винсент, отправленный в Лондон, если и хорошо знал своё дело, как личность ещё был незрел, его характер не успел приобрести эмоциональной устойчивости. Строгость пасторского дома, тоска и одиночество раннего детства, цельность натуры и упрямство, положение старшего, который должен прокладывать дорогу младшим братьям, – всё это, как и усердное чтение романов и лирических стихов без необходимого их осмысления, не способствовало эмоциональному равновесию Винсента.
Он часто употреблял слово «серьёзно» и писал даже, что желает быть «степенным и серьёзным». Его необыкновенная чувствительность, богатство внутреннего мира, которые раскрываются в его первых письмах, могли бы сослужить ему хорошую службу в общении с молодыми женщинами, но для этого надо было так проявить свои замечательные качества, чтобы их заметили и оценили. Но, оставаясь в душе дикарём, он этого не умел, а подсказать было некому. Да и внешность огненно-рыжего, не особенно ловкого в обхождении и нелюдимого молодого человека говорила не в его пользу. В свои двадцать лет он казался несколько мрачноватым, но при этом был учтив и быстро тушевался при незнакомых людях, что на первых порах окружающим не могло не понравиться.
Посылать в Лондон юношу с таким минимумом житейского опыта было рискованным решением. В Гааге ему ни разу не довелось испытать любовного приключения. Винсент был из тех натур, которых первая любовь или окрыляет, или убивает наповал.
В Лондон Винсент поехал через Париж, где посетил Лувр, осмотрел экспозиции Люксембургского дворца. Он ничего не упускал, днями напролёт изучая коллекции живописи и стараясь проникнуться атмосферой французской столицы, которая ещё несла на себе некоторые следы Парижской коммуны, но быстро возвращалась к своему привычному образу жизни. Он видел всё – от памятников Античности до современной официальной живописи. Он посетил и заведения фирмы Гупиль, которая произвела на него сильное впечатление просторными магазинами и экспозиционными залами. Юноша был восхищён, горд тем, что служит в такой солидной фирме, уверен в своём быстром повышении в должности, поскольку для этого у него было всё необходимое. Если судить по его письмам того времени, то можно подумать, что всё это его пьянило.
Затем он отправился в Лондон – сначала поездом, потом пароходом и снова поездом. Столица Британской империи его околдовала. Это был новый Рим, если Париж, культурную столицу Европы, считать новыми Афинами. Как когда-то про империю Карла V, про земли королевы Виктории можно было сказать, что над ними никогда не заходит солнце. Винсент поселился в каком-то пансионе, но не оставил адреса этого жилья, так как вся почта для него приходила в отделение дома Гупиль на Саутхэмптон-стрит.
Пансион ему нравился: «В доме живут три немца, которые очень любят музыку, даже играют на пианино и поют, так что у меня здесь очень приятные вечера» (1). Эти люди были ему симпатичны, и он выходил с ними в город. Но жизнь в Лондоне была недешёвой: 18 шиллингов в неделю, не считая расходов на стирку белья, зато прогулки по городу были замечательные: «Всюду великолепные парки с большими деревьями и кустами, и всюду разрешено гулять» (2).
Образ жизни новых приятелей был Винсенту не по средствам, и он принял ставшее для него роковым решение сменить пансион. На этот раз он поселился у вдовы французского священника, которая жила со своей единственной дочерью, сдавая внаём часть дома. Кроме того, она давала уроки детям. Звали её Урсула Луайе, а её девятнадцатилетнюю дочь – Эжени. С сохранившейся фотографии на нас смотрит молодая особа с приятными чертами, но несколько застывшим выражением лица. Впрочем, это всего лишь фотография, да к тому же снятая в XIX веке, когда светопись не льстила моделям. Как бы то ни было, Винсент в результате ежедневного общения с этой девицей влюбился в неё без памяти. Он полюбил её так, как когда-то природу Брабанта, а затем живопись, – беспредельно и безоговорочно.
Другой на его месте сразу же постарался бы завоевать Эжени или хотя бы дать ей знать о своих чувствах. Винсент же был скован строгим воспитанием и прочитанными романами, и он стал в своих фантазиях переживать эту большую любовь, тем более для него сладостную, что внешне свое увлечение Эжени он ничем не выдавал. Эта любовь благодаря его пылкому воображению и беззащитной чувствительности действовала на него с необыкновенной силой. Каждый жест, выражение лица, простое «благодарю», невинная улыбка девушки отзывались в его душе мощными волнами, подобными звучанию большого органа в соборе.