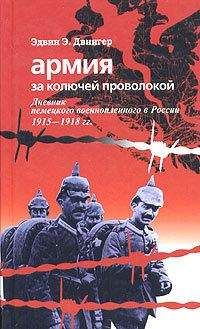Ознакомительная версия.
– Парень! – восклицает он. – Откуда такое богатство? Конечно, хочу…
– Один австрийский офицер принес, пока я спал!
– Добрые сердца у этих парней, нужно признать! – несколько покровительственно говорит Под.
Мы усиленно дымим.
– А что с тем человеком, раненным в грудь? – вдруг спрашиваю я.
Под качает головой:
– Ах, краше в гроб кладут…
Наконец он встает.
– Ладно, пойдем в наши хоромы, – говорит он. – Между прочим, мне уже не приходится карабкаться на четвереньках, – гордо добавляет он.
Я заставляю его взять пару сигарет.
– Дай и Брюнну с Шнарренбергом по одной, Под!
– Ясное дело! – коротко отвечает он. – Как бы тебя опять не отправили вниз!
В тот же вечер приходит австрийский лейтенант, подходит к дровосеку, садится на его постель. Я выжидаю некоторое время, затем зову:
– Господин лейтенант…
Он тотчас подходит.
– Ну, – говорит он, улыбаясь, – похоже, сегодня у вас дела получше?
– Господин лейтенант, я хотел бы…
– Вы выглядите почти веселым! – перебивает он меня. – Пару дней назад я серьезно за вас опасался…
– Да, и тогда вы…
– Наш врач знает свое дело, верно? – снова перебивает он меня. – Знаменитый венский профессор. Я говорил с ним о вас.
Я бросаю попытки поблагодарить его; вид у него не такой, какой обычно бывает у лейтенантов, характерное лицо художника с красивыми горящими глазами.
– И что он сказал? – с напряжением спрашиваю я.
– Грандиозная халатность. Ваши раны пришли в такое опасное состояние исключительно в результате неправильного лечения. Он надеется покончить с нагноением в три-четыре дня. Уже пора и для вашего нежного организма…
– Значит, я выздоровею? – тихо спрашиваю я.
– Если ничто не помешает, то непременно.
– Тогда, – продолжаю я, – по меньшей мере половина этих бедняг потеряли свои конечности без видимых причин?
– Без сомнений! – твердо говорит он. – Больше половины – две трети по врачебным причинам.
Я снова замолчал.
– Скажите, господин лейтенант…
– Между прочим, меня зовут Брем, – перебивает он.
– Господин лейтенант Брем, отчего наши военнопленные врачи не могут нас лечить?
– Этого никто толком не знает, – подавленно говорит он. – Предполагают, что тогда, по сравнению с русскими, оказалось бы слишком мало калек. И слишком мало умерших…
Три дня спустя меня переводят вниз. Под и Брюнн подскакивают на койках, когда я появляюсь вновь.
– Да здравствует Австрия! – восклицает Под.
Его доброе лицо сияет, как полная луна, смягчаются даже жесткие черты лица Шнарренберга.
– В газетах по-прежнему ничего о мире? – приветствует он меня.
– Вас снова вниз? – спрашивает человек с ранением в грудь. Вопрос звучит так, словно это его злит.
Изящная сестра милосердия распорядилась освободить мою прежнюю койку. Это графиня Урусова, по имени Лида, узнал я от лейтенанта Брема. Теперь мне ясно, откуда изящные туфельки, шелковые чулки, ухоженные руки – и недостаточные знания. Все сестры милосердия этого лазарета – дамы из общества, многие из них – аристократки. Крупная брюнетка, энергичная и резковатая, возможно даже, прибалтийская немка – и оттого любезна с нами, поскольку питает тайную симпатию и из-за этого может быть обвинена в государственной измене. Плевать: моя постель чиста и перестелена, на ночном столике стоит даже букетик анютиных глазок в пустой консервной банке.
Все вокруг почти что полностью изменилось. Четверо драгун из соседнего с нашим полка исчезли – двое отправились в Сибирь, двое умерли, сообщает Под. В нашу палату попадает и малыш Бланк; этого он добился благодаря изящной сестре. Среди прочих человек с ранением в грудь – старожил. Через пару минут он сообщает мне, что уже наполовину здоров.
Раны мои быстро заживают. Я могу без страха поднимать одеяло, запах тления уже не ударяет мне в лицо. Мои температурные кривые день за днем становятся все короче, ночи – без грез. Рана на левой ноге, над коленом, уже закрылась, воспаление вверху правого бедра начинает чесаться, а значит, заживать.
Кроме того, ужасающий рев во время перевязок сократился почти наполовину, с тех пор как и здесь лечат пленные. И если и тут ранения в целом не легче, все же они не так бросаются в глаза, все же они не столь откровенны, как в палате для ампутированных. Разумеется, лишь когда приглядываешься, когда наблюдаешь…
У одного уже несколько недель единственная нога поверх одеяла. Он лежит на водяных мешках, на спине и ягодицах у него уже давно нет кожи – каждый вздох, видимо, причиняет ему острую боль, потому что он беспрерывно жалобно стонет. У другого, с ранением мочевого пузыря, из-под одеяла свешивается длинная трубка, по которой в судно капает черная сукровица. У третьего ранение в желудок, он не в состоянии ничего есть, поскольку все сразу выходит через рану, – если рана быстро не затянется, он будет медленно умирать от голода.
Другому осколком гранаты сорвало мясо с почек. Видимо, долгие месяцы ему придется провести на животе, его почки обнажены, и их выделения разъедают мышцы. Двое в нашей палате с выбитыми глазами, трое с ужасными ранениями живота, у двоих прострелена прямая кишка, которая никак не заживает, поскольку у врачей нет средств, чтобы воспрепятствовать их длительному загрязнению. У одного нет нижней челюсти, всю оставшуюся жизнь он будет питаться через трубочку…
– Шнарренберг, – вдруг спрашиваю я, – а вы когда-нибудь сможете снова стрелять?
Шнарренберг озадаченно вздрагивает. Ясно вижу, как он борется с собой, что в нем зарождается что-то новое, готово уже выплеснуться из него, но пока это слишком новое, слишком еще неокрепшее чувство.
– Разумеется, – сердито бурчит он. – А как же иначе?
И снова дни тянутся прежним порядком: перевязки, еда, сон. И тем не менее царит новое настроение – у нас, ветеранов, такое чувство, что самое тяжелое позади. Теперь мы получаем медикаменты, кое-какие укрепляющие средства, некоторые даже из тех, которые у русских называются «слабительным», своего рода диета, которая хотя и всего лишь жиденькая кашица, однако усваивается ослабленными желудками гораздо лучше, нежели их национальная еда, грубая перловка.
Вдобавок в спокойные послеобеденные часы мы делаем первые попытки ходить. Само собой разумеется, мы предпринимаем эти попытки лишь тогда, когда в нашем зале нет посторонних и легкораненый стоит на страже в дверях, чтобы задержать внезапно появившихся сестер милосердия или санитаров каким-нибудь вопросом или просьбой на время, пока мы не доберемся до своих коек. Ну уж нет, мы не собираемся раньше времени отправляться в Сибирь и прекрасно знаем, что нас безжалостно отправят отсюда, как только какой-нибудь злобный санитар обнаружит, как мы ковыляем взад-вперед.
Ознакомительная версия.