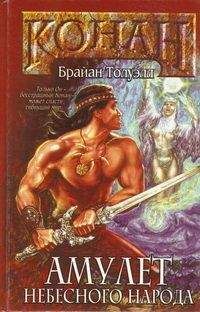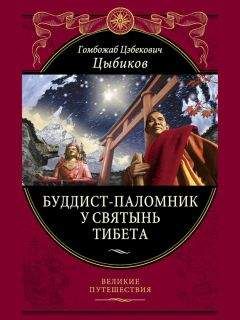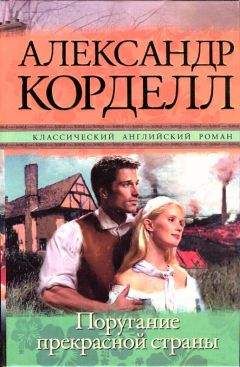Случайно или нет, но моя мать отошла ко Господу в день памяти святых бессребреников Космы и Дамиана — в ночь с 14 июля нового стиля, или 1-го июля по старому на 15-ое — на Праздник Положения Ризы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы во Влахерне.
…В Бродниковом переулке — совсем от нас близко, был небольшой Полянский рынок. Стояли телеги, возки; на длинных деревянных рядах не часто, свободно выстраивались крынки, и крыночки, и стаканчики с румяной ряженкой, от бочек головокружительно пахло настоящей квашеной капустой, деревенскими бочковыми огурцами. Были и еще какие-то кисловатые запахи коней, одежды, сена, — это был хорошо знакомый мне с первых месяцев жизни запах деревни. Еще в 70-ые годы, когда я много ездила по России — командировки были как минимум раз в месяц, а то и два, — я еще слышала этот запах в деревнях. Но уже после перерыва в середине 90-х попав в деревню — одну, другую, я этого родного мне запаха не услышала. Исчезла скотина, исчезли хлева, исчезли настоящие русские печи, замененные какими-то новоделами, исчезла глиняная и чугунная посуда, — и уже деревня стала — во всяком случае, ближе к центру России, что дача.
…Но чудо Полянского рынка для меня было сокрыто в другом: к нам в Бродников переулок приезжали из-под Троице-Сергия, из-под Нижнего торговцы деревянными игрушками. Белые игрушки привозили Богородские, а расписные — Полхов-Майданские — из Сарово-Дивеевских мест. Они пахли соками свежеструганного дерева, запахами избы, любимыми «черными» (ржаными) лепешками из русской печки, которые натирались — так у нас говорили, — со сметаной. Расписные игрушки — свистульки, матрешки, коробочки, яички-писанки ошеломляли меня своей красотой. Они в моем сознании сливались с великолепием ивановских ситцев — я носила ситцевые платьица с теми старинными узорами, что еще береглись (недосуг еще, видно, было кому-то все это испортить, да и дизайнеры, слава Богу! тогда еще не народились) от прошлого XIX века — какая же это была красота! Синие фоны, мелкий цветочек, а то и попросту частый мелкий горошек, да синий фон-то какой был густой, кобальтовый… Потому-то я так любила, как любят изысканные произведения искусства (а чем ситцы, были не произведения искусства?) эти старенькие свои, застиранные, но всегда наглаженные, чистые и с воротничками платьица. А к ним две тугих косички с бантами — чистота и стянутость лба — до хруста! Старая школа: детей всегда содержать в безупречной чистоте, в подтянутости, хоть в ситцах. Хоть в шелках…
Была у меня неисполнимая, неосуществимая, фантастическая и даже абсолютно безумная по нашей круглой бедности мечта — заполучить вот такую расписную Полхов-Майданскую колясочку для кукол. Хотя самой куклы-то у меня не было (ну, другие какие-то игрушки, попроще), но колясочка…Ее ярко-ситцевая роспись, ее свежеструганный запах… А вот вспомнить, дождалась ли я все-таки этой колясочки или нет, трудно. Смутно помню: быть может, в конце концов, мне ее все-таки и умудрились купить, но давно сказано поэтом, что «предчувствия сильнее чувств», а вожделения — сильней владения.
Все в этом маленьком Бродниковом переулке сливалось для меня вместе во что-то единое — загорелые лица баб, крутой запах махорки, сено у лошадок, дух нагретой живой московской земли (как я любила и пыль Московскую), крынки, деревня, пришедшая сюда в Москву и принесшая с собой Россию, которую детское сердце познавало через запахи, через глаза, через сердце и через какие-то другие неведомые органы чувств.
Кто сказал, что у человека столько-то вот органов чувств? А откуда же эта пронзительная детская память?! Откуда эта за всю жизнь неизбытая любовь, ни на что этот Полянский рынок не променявшая, ничем лучшим не соблазнившаяся?
…До реки от нас было что-то чуть меньше километра. Малый Каменный, Большой Каменный Мосты, и — перед глазами на горе, сказочный, как выплывающая из окиян-моря царевна-Лебедь — царственный Кремль с соборами. А там, между прочим, еще сидел Сталин. Но мне было все равно. Вокруг меня и под ногами моими была Россия и Русская земля.
* * *
Тихое было в те 50-е годы Замоскворечье: смиренное и одухотворенное. Еще оставались остатки знаменитых замоскворецких садов — кусочек сада усадьбы Третьяковых около Третьяковки, где мы в школьные годы еще умудрялись лазить, играть и таскать со старых яблонь одичавшие зеленцы. Были остатки таинственного сада между Марфо-Мариинской обителью и Полянкой. Я, конечно, ничего тогда не знала о том, что это было за место, но таинственное, пронзительно-насыщенное его молчание — слышала. Был рядышком маленький Старомонетный переулок с высоченными старыми тополями у здания моей второй школы. Охватить их невозможно было даже втроем. И я любила потом под этими тополями, в тишине, присев на широких каменных школьных ступеньках готовиться к первым моим экзаменам.
Как небыль собственное детство —
Тишайший полдень улицы родной,
Москва-реки отлог песчаный,
И тополиный пух, летучий, неземной…
Тишина наших Замоскворецких переулков была какая-то особенная, молитвенная тишина. Молилась древняя, вековечная святая Московская земля, молились за нас пред Господом тысячи и миллионы усопших праведных и святых душ, что родила и погребла эта московская земля, «воздыханиями неизглаголанными» молились и наши, еще слепые, не прозревшие, но чуткие сердца, отзываясь на незримую молитву предков-небожителей и освященной нашей земли.
…Даже старые магазины оставались в Замоскворечье на своих прежних привычных местах — овощной соседки называли «Дунаевским» по фамилии его дореволюционного владельца. Молочную, до самой аж «перестройки» сохранявшую свой дореволюционный узорчатый кафель, свежесть продуктов, ловкость и доброту продавщиц, называли «Чичкинской»…
Вечерами мы выходили на наш крохотный декоративный балкончик и, опершись на его парапет, стояли и смотрели в сторону реки на закат … И отец мне почему-то часто повторял одни и те же слова: «Смотри, вон там за рекой (а от нас было видно это место), на берегу стоял прежде Храм Христа Спасителя, и он был так красив, что даже нас, отчаянных Таганских и Рогожских рабфаковских мальчишек он тянул к себе как магнит. Мы часто сюда бегали… Если б ты могла услышать, как гудели его колокола…»
Отец любил и хорошо знал Москву. Он не был церковным человеком, но поистине Божие чудо свершалось в том, что именно на этом балкончике и именно от отца я впервые услышала имя Христа. Во всяком случае, я так помню. Отец, пройдя всю войну в автодорожных частях, теперь работал инженером, кроме того, он был спортсмен, как многие тогда… Живой общительный человек, отец любил и умел потанцевать, попеть, слегка пошутить, и некоторые родственники даже несколько свысока говорили о его якобы легковесном отношении к жизни. Отец действительно совсем не умел зарабатывать деньги (сверх положенного жалования) и как-то ловко устраиваться в этой жизни. Наверное, он был романтик, — могла бы сказать я. Но не скажу, потому что всегда знала об отце другое: он был сокровенный даже для самого себя мистик. Именно он сказал мне имя Христа. Именно он, каждый вечер, присаживаясь у моей кроватки, сочинял мне сказочные истории, в которых все человечество рисовалось мне неким деловито снующим муравейником, люди — маленькими муравьями, над которыми в необозримой выси существовал кто-то всемогущий, справедливый, милостивый, а иногда и гневно-грозный. И потом многие годы, даже десятилетия, меня этот образ не оставлял.