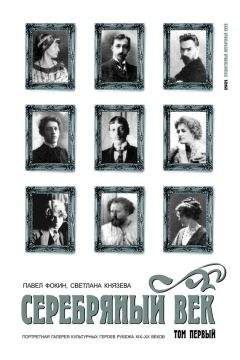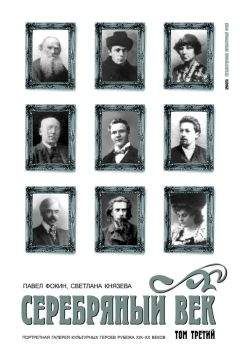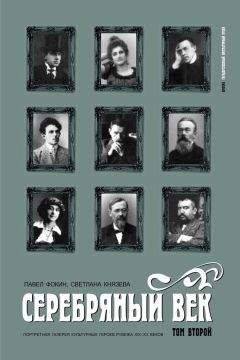«Он был небольшого роста, и весь сжатый, – с боков, спереди, сзади, – сухой, крепкий, нервный. Волосом черен, и борода эспаньолкой à la Napoléon III. Не человек, а „фрак“… Все в нем – форма, срок и обязанность. Встает рано, ложится поздно, и все сутки в заботе, труде и неутомимости…
Я слышал его, в частном доме, лет 20 назад, когда он только-только начинал; и хотя слушателями были все „люди русского направления“, в халатах и полухалатах, он сам уже тогда был во фраке и в белом галстуке.
В этом и секрет.
В большом концерте 22 января [1913. – Сост.] в зале Дворянского Собрания („бенефис оркестра“) играли „Осень“ Чайковского: закрыв глаза, вы слышали воющий ветер, такой печальный, такой одинокий, – такой ужасный тем, что его покинули цветы и плоды, что он не ласкает никакой зелени, никакой жизни, и в нем самом нет жизни, а есть только страшная тоска стихии, несущейся над развалинами, над камнями, над бесплодной пустыней…
О, как страшно, и жалко, и пугливо! Это душа плачет, когда в ней осень, когда все потеряно, все утрачено…
Раскрыл глаза: перед замершим в благоговении залом сидит человек 70 людей в черных фраках и белых галстуках с сосредоточенностью монахов. И эти „монахи“ Андреева, все с английскими проборами посредине головы, элегантные, молодые, энергичные, сидят над трехструнными балалайками и каждый в отдельности и каждую минуту издает „трынь-брынь“. Да, но и „Медный всадник“ Пушкина состоит в каждой строчке и во всяком слове из „аз-буки-веди“, то есть не из большого добра.
Но
Люблю тебя, Петра творенье.
…Андреев слил в шум ветра эти коротенькие, не способные к развитию звуки, звуки без тонов, звуки без теней… Тут что-то играли на „bis“, в первом отделении концерта, играли „из Грига“ (Андреев объявил): это был чудный шепот, – и вы слышали, как грудь шепчущего задыхалась от какого-то волнения… Балалайки шептали…
Балалайки шептали!!!
…В. В. Андреев показал на своем оркестре, что „оркестр на этих инструментах“ может давать волшебную музыку. Он имеет вдохновение к этому делу – то вдохновение, которое до него никто не имел, и после него мало надежды, чтобы кто-нибудь с такою же силою, с равным талантом и с таким же успехом получил, выразил и осуществил такое вдохновение» (В. Розанов. Среди художников).
АНДРЕЕВ Леонид Николаевич
9(21).8.1871 – 12.9.1919
Прозаик, драматург, публицист. Публикации в журналах и газетах «Курьер», «Журнал для всех», «Жизнь», «Правда» и др., альманахах «Шиповник», «Факелы», сборниках «Знание», «Земля» и др. Отдельные издания: «Рассказы» (СПб., 1902; с посвящением М. Горькому), «Жизнь Василия Фивейского» (СПб., 1904), «Красный смех» (СПб., 1905), «Марсельеза» (СПб., 1905), «Памяти Владимира Мазурина» (СПб., 1906), «Царь-голод» (СПб., 1908), «Анатэма» (СПб., 1908), «Океан» (СПб., 1911), «Король, закон и свобода» (Пг., 1914), «В сей грозный час» (Пг., 1915), «Дневник Сатаны» (Гельсингфорс, 1921) и др. Собрания сочинений: в 7 т. (СПб., 1901–1909); в 17 т. (СПб.; М., 1911–1917), Полное в 8 т. (СПб., 1913). С 1917 – за границей.
«Когда мысленно я вызываю образ Андреева, он представляется мне молодым, чернокудрым, с остроблистающими, яркими глазами, каким был в годы Грузии, Пресни, Царицына. Он лихорадочно говорит, курит, стакан за стаканом пьет чай где-нибудь на террасе дачи, среди вечереющих берез, туманно-нежных далей. С ним, где-то за ним, тоненькая, большеглазая невеста в темном платье, с золотой цепочкой на шее. Молодая любовь, свежесть, сиянье глаз девических, расцвет их жизни» (Б. Зайцев. Москва).
«Был Андреев типичный москвич. Радушный и гостеприимный, мало разборчивый на знакомства; масса приятелей, со всеми на „ты“; при встречах, хотя бы вчера виделись, целуются. Очень любил пить чай. Самовар в его квартире не сходил со стола круглые сутки. Работал Андреев по ночам, до четырех-пяти часов утра, и все время пил крепкий чай. В пять утра вставала его матушка, Настасья Николаевна, и садилась за чай. Днем, когда к ним ни придешь, всегда на столе самовар.
…Когда вспоминаешь о Леониде Андрееве того времени, нельзя отделить его от его жены, Александры Михайловны. Брак этот был исключительно счастливый, и роль Александры Михайловны в творчестве Андреева была не мала.
Андреев был с нею неразлучен. Если куда-нибудь приглашали его, он не шел, если не приглашали и его жену. Александра Михайловна заботливо отстраняла от него все житейские мелочи и дрязги, ставила его в самые лучшие условия работы. Влияние на него она имела огромное. Андреев пил запоем. После женитьбы он совсем бросил пить и при жизни Александры Михайловны, сколько знаю, держался крепко» (В. Вересаев. Литературные воспоминания).
Леонид Андреев
«Он был удивительно интересный собеседник, неистощимый, остроумный. Хотя его мысль и обнаруживала всегда упрямое стремление заглядывать в наиболее темные углы души, но – легкая, капризно своеобычная, она свободно отливалась в формы юмора и гротеска. В товарищеской беседе он умел пользоваться юмором гибко и красиво, но в рассказах терял – к сожалению – эту способность, редкую для русского.
Обладая фантазией живой и чуткой, он был ленив; гораздо больше любил говорить о литературе, чем делать ее. Ему было почти недоступно наслаждение ночной подвижнической работы в тишине и одиночестве над белым, чистым листом бумаги; он плохо ценил радость покрывать этот лист узором слов.
– Пишу я трудно, – сознавался он. – Перья кажутся мне неудобными, процесс письма – слишком медленным и даже унижающим. Мысли у меня мечутся, точно галки на пожаре, я скоро устаю ловить их и строить в необходимый порядок.
…Казалось бы, что он, равнодушный к фактам действительности, скептик в отношении к разуму и воле человека, не должен был увлекаться дидактикой, учительством, неизбежным для того, кому действительность знакома излишне хорошо. Но первые же наши беседы ясно указывали, что этот человек, обладая всеми свойствами превосходного художника, – хочет встать в позу мыслителя и философа. Это казалось мне опасным, почти безнадежным, главным образом потому, что запас его знаний был странно беден. И всегда чувствовалось, что он как бы ощущает около себя невидимого врага – напряженно спорит с кем-то, хочет кого-то побороть» (М. Горький. Литературные портреты).
«Л. Андреева я очень любил. Мне нравилось его лицо, кажущееся таким гордым его выражение, и в то же время огонек какой-то виноватости и какого-то страха в темных, сверкающих глазах. Часто, разговаривая с ним, я улавливал этот оттенок. Он устремлял взор, и я читал в глубине его беспокойство, тревогу, испытующий вопрос. Его самолюбие, гордость, иногда даже апломб были напускные. Он бравировал этим, чтобы скрыть отсутствие самоуверенности. Ибо в глубине души он не был уверен в себе и не мог не знать и не чувствовать – для этого он был слишком одаренным человеком, – как много поддельного, трескучего и поверхностного в его произведениях. Самого себя обмануть труднее, чем читателя и зрителя.