Дали уже тогда, в молодости, если и не понимал до конца, то интуитивно ощущал, что авангарду грош цена, если он не будет идти из традиции; если же, как безродный Маугли, будет проявлять свою дикую самобытность кустарным способом, то он может уйти в небытие, даже не родившись.
Позже он придет к выводу, что «все неукорененное в традиции — плагиат». Эта фраза принадлежит испанскому писателю Эухенио д’Орсу (он еще появится на наших страницах). В продолжение темы Дали пишет вот что:
«Приведу пример в назидание изучающим историю искусств: Перуджино и Рафаэль. Рафаэль еще в ранней юности, сам того не заметив, впитал во всей полноте традицию, воплощенную в работах его учителя Перуджино. Рисунок, светотень, фактура, композиция, архитектоника, миф — все было ему дано. Он властелин, он — волен. И может вдохновенно работать при самых строгих ограничениях. Если понадобится, он уберет колонну, добавит несколько ступеней к лестнице, еще ниже наклонит голову Богоматери — так что скорбные тени лягут возле глаз. Какая свобода, какое богатство, какой накал! Сравните с Пикассо — вот полюс, противоположный Рафаэлю. Он столь же велик, но проклят. Проклят, раз обречен на плагиат, как всякий, кто восстает против традиции, крушит ее и топчет, недаром на всех его вещах лежит отблеск рабской ярости. Раб, он скован по рукам и ногам своим новаторством. В каждой работе Пикассо пытается сбросить цепи, но его тяготит и рисунок, и цвет, и композиция, и перспектива — всё. И вместо того, чтобы искать опору в недавнем прошлом, из которого он сам вышел, вместо того, чтобы припасть к традиции — живой крови реальности, он перебирает воспоминания о зрительных впечатлениях, и получается плагиат: то он списывает с этрусских ваз, то у Тулуз-Лотрека, то копирует африканские маски, то Энгра. Вот она, нищета революции. Верно замечено: “Чем яростнее бьешься за обновление, тем неизбежнее топчешься на месте”».
Лучше не скажешь. Вряд ли очерченная тенденция сформировалась уже в юности, но в работах того периода чувствуется определенное и точное толкование изображаемых событий сквозь призму тех незыблемых основ традиции, которой Дали был верен всегда. Причем толкование своих подсознательных образов он насыщал избирательной направленностью — фантомы его образов не выдуманы, не скопированы извне, а воплотились точными копиями его подсознания. Недаром Дали говорил впоследствии одному журналисту, что ничего не трансформирует в своих образах, не удлиняет и не увеличивает какие-то предметы или части тела, а просто срисовывает то, что рождается у него в голове.
Для художника Дали всегда было чрезвычайно важно, чтобы картина не была просто объектом выставки (а им может стать что угодно в современном поп-арте), а произведением изобразительного искусства, выполненным по его законам.
Здесь уместно потолковать об истории авангарда, истории, по сути простой и бесхитростной. Изобразительное искусство на протяжении многих веков несло на себе двойной груз. Оно обязано было быть в первую очередь реалистичным, ибо других способов передачи точной информации о предмете не было до середины XIX века. Французский король, к примеру, сватая за своего сына испанскую принцессу, получал из Мадрида достаточно точное изображение инфанты работы Веласкеса или Гойи, а не кубистический наворот Пикассо. А вторая задача искусства как была, так и остается до сих пор главной — это форма, которая является вместе с тем и содержанием, где художник ищет гармонию в цвете, перспективе, композиции, рисунке и других параметрах. Это, еще раз подчеркнем, его главная, основная задача.
С появлением фотографии в середине позапрошлого века художники почувствовали, что у них развязываются руки, — функции передачи точной зрительной информации можно теперь передать фотопластинка, сосредоточив все творческое внимание на чистой форме. Совершенно закономерно, что вместе с появлением фотографии рождается импрессионизм, начавший работу по изгнанию предмета из картины. Предмет у импрессионистов стал как бы размываться, одевать не совсем реалистические одежды и постепенно исчезать; он стал объектом не изображения, а художественного исследования. А когда в 1912 году появилось кино, именно в этом году русский художник Василий Кандинский создал первую абстрактную акварель, где не было уже и намека на предмет. Как видим, научно-технический прогресс делал революцию и в искусстве. Изобразительное искусство, условно говоря, в XX веке окончательно перестает быть изобразительным, становится своеобразным барометром технического прогресса и ревнующим соперником телевидения, Интернета и тому подобного. Предметный мир передается теперь на любые расстояния, не нуждаясь в бумаге и карандаше, холстах и красках, и искусству остается быть именно образным иносказанием человеческой деятельности в целом. Художник, как и ученый, становится соглядатаем внутренних тайн природы. Не случайно мэтры абстракционизма обращались к космогонии и прочим невнятным образам Вселенной, чтобы хоть как-то объяснить себе и зрителям, что они изображают. В большинстве случаев, а это я могу подтвердить как художник, ориентированный на новейшие направления, авторы дают названия своим произведениям после их создания, выдумывая их в угоду зрителю, чтобы хоть в какой-то ассоциативной форме привлечь внимание и указать то явление, акт или предмет, который тот обязан увидеть в картине.
В 20-е годы Дали, сообразуясь с веяниями, писал кубистические картины, содержащие в себе явные признаки и истоки далианского сюрреализма. Взять хотя бы «Композицию из трех фигур», одно из лучших его произведений того периода. Здесь много от Пикассо, но индивидуальность Дали словно бы проявляется сквозь явно подражательную тенденцию. Здесь видно также его упорное стремление оставаться в рамках Традиции — именно с большой буквы. Он, хоть и видоизмененным, все равно оставляет предмет в картине (архетип поведения буржуа), рискуя прослыть реакционером в стане Революции, чувствуя в то же время ответственность за судьбу искусства в целом и за Традицию в частности.
В продолжение темы процитируем высказывание нашего героя из его же книги «50 магических секретов мастерства»: «Если так называемая „современная живопись“ займет свое место в Истории, она войдет туда как иконографический документ или как вырождающаяся разновидность декоративного искусства, сколь бы ни были велики притязания, — как искусство живописи».
В зрелые годы Дали постоянно сокрушался о деградации искусства, о бессмысленных и выхолощенных попытках создать в живописи что-то «абсолютно новое», об утрате традиции и секретов старых мастеров и так далее, но в дни юности в нем горело ясное пламя призвания, которому он служил преданно и страстно. Поэтому он хотел знать о живописи абсолютно все, чтобы подняться на вершины мастерства, и вместе с тем был не чужд, а даже и всегда в первых рядах тех, кто хотел делать и делал новое искусство.
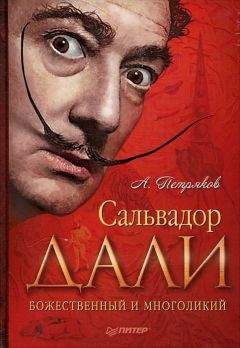




![Филип Фармер - Властелин тигр [= Владыка тигр, Бог-тигр, Властитель тигр, Лорд Тигр]](https://cdn.my-library.info/books/21569/21569.jpg)