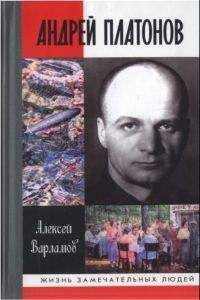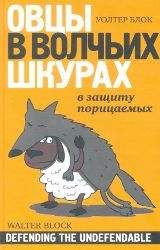Меня вы ставите в шайку ее хулителей и поносителей, людей не достойных Ее видеть и не могущих Ее видеть, а потому я должен отойти от дома красоты — искусства и не лапать Ее белые одежды. Не место мне, грязному, там.
Ладно. Я двадцать лет проходил по земле и нигде не встретил того, о чем вы говорите — Красоты. <…>
Это оттого я не встретил и никогда не подумал о Красоте, что я к ней привык, как к матери, о которой я хорошо вспомню, когда она умрет, а сейчас я все забываю о ней, потому что стоит она всегда в душе моей.
Я живу, не думаю, а вы, рассуждая, не живете — и ничего не видите, даже красоту, которая неразлучна и верна человеку, как сестра, как невеста.
Вы мало любите и мало видите.
Я человек. Я родился на прекрасной живой земле. О чем вы меня спрашиваете? О какой красоте? О ней может спросить дохлый: для живого нет безобразия.
Я знаю, что я один из самых ничтожных. Это вы верно заметили. Но я знаю еще, чем ничтожней существо, тем оно больше радо жизни, потому что менее всего достойно ее. Самый маленький комарик — самая счастливая душа.
Чем ничтожней существо, тем прекраснее и больше душа его. Этого вы не могли подметить. Вы люди законные и достойные, я человеком только хочу быть. Для вас быть человеком привычка, для меня редкость и праздник. <…>
Я уверен, что приход пролетарского искусства будет безобразен. Мы растем из земли, из всех ее нечистот, и все, что есть на земле, есть и на нас.
Но не бойтесь, мы очистимся — мы ненавидим свое убожество, мы упорно идем из грязи. В этом наш смысл. Из нашего уродства вырастает душа мира.
Вы видите только наши заблуждения, а не можете понять, что не блуждаем мы, а ищем. <…>
Мы идем снизу, помогите нам, верхние, — в этом мой ответ».
Рассуждая умозрительно, в самозащите Платонова можно заметить не только очевидную сильную уязвленность и самолюбие молодого автора, не только унижение паче гордости или, как говорил Пушкин об одном из своих героев, «англоман выносил критику столь же нетерпеливо, как и наши журналисты» и таким же нетерпением отличался журналист воронежский столетие спустя, — так вот в его «манифесте», в этой, по удачному выражению Льва Шубина, «декларации прав» молодого писателя можно увидеть определенную стратегию либо по меньшей мере продуманную линию поведения.
В самом деле, если не знать всего написанного автором «Ответа редакции „Трудовой армии“» к той поре, если отвлечься от посвященных красоте Божьего мира стихов, публицистических размышлений о целомудрии и сознании и пройти мимо диалога с Федоровым, Достоевским, Ницше, Розановым, Шпенглером, Ключевским, Фрейдом, Веннигейнером, то можно предположить, что платоновский отлуп хулителям из «Трудовой армии» писался от лица талантливого самоучки, непросвещенного, но жаждущего просветиться рабоче-крестьянского парня из числа тех, о ком упоминал Блок — «бьют себя кулаками по несчастной голове: мы глупые, мы понять не можем» — даром, что ли, Андрей Платонович и сам сообщал в ту пору в анкетах, что образование у него «нисшее».
Но поскольку очевидно, что автор «Чульдика и Епишки» превосходил своих зоилов не только по природному дарованию, но и по образованию и начитанности и никакие «верхние» помочь ему ни в чем не могли, то из платоновского «Ответа» следует, что за его как бы смирением, за своеобразным литературным юродством и самопровозглашенным убожеством скрывался сознательный полемический прием. Платонов словно предчувствовал, что его писательский удел — раздражать и навлекать на себя гнев, он учился держать удар и отвечать обидчикам. С рабочих позиций в рабочем государстве делать это было удобнее всего, и он свое законное место грамотно занял, благо ему прикидываться рабочим надобности не было.
Только как ни увлекательна версия о Платонове-стратилате, умело разыгрывающем пролетарскую карту, в своей основе она может быть верна лишь частично: человек этот действовал больше по наитию, чем по расчету. С житейскими расчетами у него, несмотря на техническое образование, было неважно, свидетельство чему его достаточно наивная переписка с Госиздатом в 1921–1922 годах, да и вообще вся дальнейшая драматическая история взаимоотношений с официальной литературой и резких столкновений с советской критикой, во время которых он вел себя не совсем ловко. Вместе с тем совпадение самохарактеристик «я один из самых ничтожных» в этой статье и «я… ничтожен и пуст» в рассказе «Жажда нищего» показательно, как показательно и то, что «ничтожнейшим из существ» Платонов называл не кого-нибудь, а Федора Михайловича Достоевского. Так что идеальная компания у воронежского писателя подобралась что надо. С реальной — картина была разноречивей и пестрей.
В литературное окружение Платонова в Воронеже — а это был город с очень насыщенной культурной, литературной жизнью, недаром позднее его уроженец так заскучал в Тамбове — входили самые разные писатели, поэты, журналисты, критики. Платонова они неплохо знали, проводили с ним много времени, о нем писали, с ним спорили, выпивали, но вряд ли даже приблизительно представляли масштаб его дарования. Георгий Степанович Малюченко, Владимир Борисович Келлер, Михаил Матвеевич Бахметьев (в соавторстве с ним Платонов опубликовал «Рассказ о многих интересных вещах»), Андрей Гаврилович Божко-Божинский, Андрей Никитич Новиков, Николай Павлович Жайворонков (Лев Стальский), поэт-имажинист Борис Владимирович Хижинский (Дерптский), а также Георгий Андреевич Плетнев, Август Ефимович Явич (Семен Пеший), Борис Андреевич Бобылев, Федор Алексеевич Михайлов, Николай Алексеевич Задонский, Владимир Александрович Кораблинов… С иными из них Платонов был знаком только по Воронежу, с другими дружба продолжалась всю жизнь, одни умерли рано, кто естественной смертью, кто наложив на себя руки, а кто замученный в ГУЛАГе. Другие дожили до того времени, когда Платоновым стали всерьез интересоваться и возникла дружина платоноведов, людей, по выражению современного писателя Олега Павлова, «одержимых», «знающих куда больше о Платонове, чем он сам знал о себе», которые стали по крохам, как драгоценнейшее вещество жизни, собирать все, связанное с этим писателем. Но, несмотря на все усилия, платоновская мемуаристика уступает даже довольно скудной булгаковской, не говоря уже о богатейших воспоминаниях об Ахматовой, Пастернаке, Мандельштаме, Цветаевой, Волошине, Горьком, Бунине… Платонов был не только очень сложен и закрыт от окружающих как личность, но был меньше всего озабочен своим посмертным портретом и инстинктивно стремился уйти от литературной среды, не желая отражаться в ее прямых и кривых зеркалах, а тем более эти отражения ловить и множить, как это было свойственно иным из его современников и современниц.