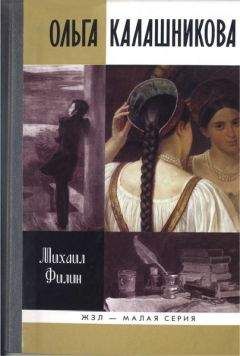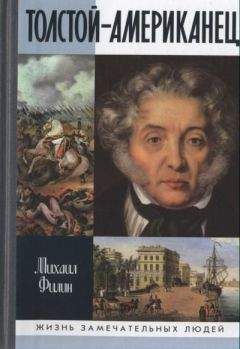Ему-то легко было подтрунивать, а вот поляку в какой-то момент, похоже, стало не до шуток: Густав Олизар вдруг осознал, что он страстно, как никогда ранее, влюбился.
И дамой его сердца оказалась расцветавшая не по дням, а по часам Мария Раевская.
Вот как представил дело сам граф на страницах воспоминаний:
«У Раевских я встретил всё, что соответствовало потребностям моего общественного положения и вместе с тем было нужно для удовлетворения душевных стремлений образованного человека. Нельзя было не ценить высоко благородства взглядов и прямоты старого генерала, о котором в заметках Наполеона сказано, что он выкроен из материала, „dont on fait les maréchaux“[100]. Мать и дочери привлекали к себе всех образованием, любезностью и изяществом. Поэтому трудно было не привязаться к этим людям, не чувствовать к ним симпатии и благодарности за оказываемую любезность.
Но в то время, когда другие искали в доме Раевских возможности приятно провести время, я понемногу почувствовал живой интерес к юной смуглянке с серьезным выражением лица. На первых порах это невинное расположение казалось неопасным. Но мало-помалу Мария Раевская из ребенка с неразвитыми формами стала превращаться в стройную красавицу, смуглый цвет лица которой находил оправдание в черных кудрях густых волос и пронизывающих, полных огня, очах. Нужно ли удивляться, что подобная девушка, обладавшая при том живым умом и вокальным талантом, стала украшением вечеров и что я сильно ею увлекся»[101].
К сожалению, Густав Олизар не указывает даты пробуждения своего чувства, однако не вызывает сомнений, что речь идет о начале 1820-х годов. К этому времени Мария Раевская была — по меркам эпохи — уже вполне взрослой девушкой, которая пребывала, как говорится, «на выданье». (В образе ангелоподобной невесты, «чистейшего образца» невинности она и запечатлена на литографии 1821 года.)
Граф продолжает чувствительное повествование, но с его рассказом, до поры гладким и романтичным, неожиданно происходит странная метаморфоза: он теряет жизненность и начинает походить на выдуманную задним числом и не слишком правдоподобную схему:
«Но я не мог не видеть с горечью, что этот распустившийся цветок, значение которого я едва ли не первый предугадал, мало обращает на меня внимания. Что могло быть этому причиной? не возраст мой, ибо я тогда был в цвете молодости, не состояние и общественное положение, ибо я был богат и занимал пост principis nobilitatis[102]».
Чем же было обусловлено демонстративное равнодушие Марии к элегантному польскому воздыхателю? Ответ мемуариста звучит несколько неожиданно и привносит в описываемую им любовную историю элементы злободневного журнализма и исторической драмы чуть ли не шекспировского масштаба одновременно:
«Совсем другое обстоятельство, а именно различие народности и религии препятствовало мне найти в ее сердце желаемый ответ на мою склонность. Благородная, великая душа ее чувствовала в себе влечение служить религии и любимой родине. Мария Раевская смотрела на призвание женщины с высшей точки зрения и не хотела играть фальшивой роли. Она ясно сознавала, что, при отношениях обеих народностей, русская женщина, желавшая остаться таковой вполне, не может соединить своей судьбы с судьбой прямодушного поляка, счастье которого желала бы составить. Одна из двух сторон должна бы была отречься от того, что ей всегда казалось возвышенным и благородным, а потому и необходимым для истинного счастья»[103].
Таким образом, Густав Филиппович видел корень всех амурных бед в многовековом «домашнем, старом споре славян между собою» (III, 269). Полемизировать здесь с ним трудно, да и не стоит, ибо русско-польская проблема тогда была и впрямь крайне остра (а через несколько лет, в период мятежа 1830–1831 годов, и вовсе обострилась до предела). Можно, правда, возразить мимоходом, что после происшедших в XVIII столетии разделов Польши и Наполеоновских войн смешанные браки вовсе не считались в Российской империи диковиной и обвенчавшиеся супруги сплошь и рядом жили счастливо, душа в душу, при желании вовсе не отрекаясь от «любимой родины».
Дальнейшее поведение «прямодушного поляка» в контексте вышеприведенных его рассуждений выглядит и нелогичным, и, более того, нравственно сомнительным.
Казалось бы, он, рыцарственный аристократ, проникся убеждением, что глубоко уважаемая им «русская женщина» Мария Раевская «не может соединить своей судьбы» с судьбой польского патриота, так как она не намеревалась жертвовать всем «возвышенным и благородным». В таких случаях истинно благородные люди обычно уходят в тень, перестают докучать возлюбленным, бегут на край света, подчас даже ведут себя по-вертеровски. А граф Олизар, противореча кодексу чести, литературной традиции и себе, выбрал иной путь: он предпринял попытку все-таки обуздать ее «благородную, великую душу».
В 1823 году он, загодя посовещавшись с «известными польскими патриотами» и «получив их разрешение», отправил решительное письмо генералу H. Н. Раевскому[104]. В этом послании Густав Филиппович просил у отца Марии руки его дочери.
Ответ H. Н. Раевского, написанный по-французски, граф Олизар привел в своих мемуарах:
«На честь, оказанную вашим, любезный граф, предложением, я нахожу возможным ответить лишь отрицательно.
Вам известно, что я люблю вас и никогда не упускал случая засвидетельствовать вам мое глубокое уважение. Вершиной моих желаний стала бы возможность любить вас, как сына, тем более, что мне ведомы ваши домашние невзгоды[105]. Я ни на мгновение не усомнюсь в том, что вы сумели бы осчастливить мою дочь. Однако по воле рока либо по приговору судьбы, которая выше и могущественнее человеческого понимания, существующие различия наших религий, наших взглядов на взаимные обязанности и наконец самая разность наших народностей — всё это, мнится, возводит непреодолимую преграду между нами.
Смею тем не менее заверить, что мы надеемся и впредь видеть вас, любезный граф, в нашем доме на правах близкого друга. Убежден, что ваша душа тверже вашего сердца — и жажду лично доказать вам, сколь многого я лишаюсь и как искренни мои сожаления.
Николай Раевский»[106].
Отказ отца Марии ошеломил Густава Олизара. «Я был поражен, как громом», — пишет он. Поляк спешно удалился в свое крымское поместье, претенциозно названное им по-гречески — «Карди Ятрикон» («Лекарство сердца»), жил некоторое время отшельником: «Здесь он тосковал и писал сонеты о своей безнадежной любви»[107]. Горестное затворничество графа бурно обсуждалось в салонах Юга России, ползли фантастические слухи, а его приятель Адам Мицкевич упомянул о случившейся драме в одном из своих «Крымских сонетов» — в «Аюдаге», где были, в частности, и такие строки: