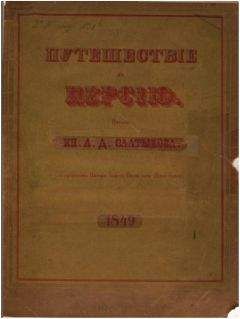– Жаль, искренно жаль! – повторял Салтыков. – Я очень благодарен этому Сбоеву… Честный, видно, человек, и я хотел бы с ним познакомиться… Он написал правду, свое распоряжение я сделал не подумавши…
Салтыков, однако, не успокоился, а поехал в Москву и узнал там в редакции адрес корреспондента. Оказалось, что Сбоевым подписался Смирнов, инспектор Александровского дворянского заведения. Возвратившись из Москвы, Салтыков немедленно же поехал к нему с визитом. “Внезапное посещение вице-губернатором, – пишет один из стариков, хорошо знавший обоих, – квартиры Смирнова смутило хозяина, тем более что он нечаянно встретил гостя в халате.
– Пожалуйста, не стесняйтесь! Я рад с вами познакомиться как с человеком, который оказал мне услугу! – быстро заговорит Салтыков, заметив смущение Смирнова и крепко сжимая его руку. – Вы напечатали в “Московских ведомостях” статью под псевдонимом Сбоева… Я читал ее… Нарочно ездил в Москву, чтобы узнать имя автора, и теперь приехал к вам, чтобы поблагодарить вас… Вы поступили честно и написали правду… Надеюсь, что на этом наше знакомство не кончится…
Вскоре после этого Смирнов, с которым Салтыков искренно подружился, принял на себя по его просьбе заведование неофициальной частью “Губернских ведомостей”. Таким образом завязавшиеся хорошие отношения продолжались до самой смерти Салтыкова. Когда его перевели в Тверь, то он писал оттуда Смирнову, характеризуя тогдашнее тверское общество; переписывался с ним также и из Петербурга, когда редактировал “Отечественные записки”.
Не менее любопытны также сведения, сообщаемые рязанскими старожилами о положении Салтыкова в обществе в то интересное время. Время тогда было действительно интересное: Россия была чуть ли не накануне освобождения крестьян. Общественное оживление и подъем духа не миновали, конечно, и Рязани: и там, как и в других местах, лучшие люди говорили о намеченных уже реформах, сплачивались и готовились послужить им. Один из старожилов пишет:
“Однообразие провинциальной жизни, со всегдашними ее спутниками: скукою, картами и сплетнями, к концу 50-х годов несколько оживилось у нас. Слухи о предстоящих реформах стали волновать умы в Рязани”. В клубе и во многих частных домах, – продолжает г-н Мачтет, цитируя полученные им письма, – где преферанс является до сих пор исключительным времяпровождением, карты все более и более забывались. Люди стали думать, читать, интересоваться судьбою своей родины, а вместо обычных “пас” или “без козырей” стали слышаться умные речи и страстные споры. Все живое, молодое и честное рвалось навстречу подготовлявшейся реформе и, полное веры в будущее, в жизнь, в себя, считало прошлое похороненным, исчезнувшим без следа, без возможности воскрешения. Городской сад весною и летом наполнялся теперь не только дамами и кавалерами, но и почтенными, степенными отцами семейств, до сих пор вечно сидевшими за зелеными столиками. Этот сад превратился в клуб, куда сходились люди для обмена мыслями, для толков и споров. “На террасе, за столом, – пишут нам, – каждый вечер можно было видеть Салтыкова, окруженного лучшими, интеллигентными людьми Рязани того времени: Офросимовым, князем Волконским (которого Салтыков в шутку называл “Жюль Фавром с затылка”) и другими передовыми впоследствии деятелями земской реформы”. В этом кружке каждый вечер шли толки и обсуждения оснований готовившейся реформы, и он невольно приковывал к себе общее внимание. Молодежь обыкновенно незаметно и тихо располагалась на ближайших скамейках или пряталась в кусты и за стволы деревьев, “чтобы послушать, что говорит он, наш незабвенный М. Е.”, как он смотрит, чего ждет. “Выберет себе местечко поближе, – говорил нам один из старожилов, – обопрется о дерево и стоит человек целые часы, не шелохнется, чтобы не пропустить ни словечка, точно соловья слушает… И сердце у него бьется, и глаза горят, и весь он живет… Глядишь и себе не веришь, тот ли это самый Иван Иванович, что до сих пор только за поповнами ухаживал да банты голубые на шею нацеплял?… Все тогда как-то меняться стали!”
Но Салтыкову недолго пришлось оставаться в Рязани и группировать около себя лучших людей общества. Уже в апреле 1860 года его вызвали в Петербург для личных объяснений по поводу возникших у него столкновений с губернатором, покойным М., и затем перевели его в Тверь. Столкновения Салтыкова с губернатором начались давно и тянулись долго, пока не дошли до открытой ссоры, поводом к которой послужило одно крестьянское дело. Губернатор был человек суровый, нетерпимый, с крутым и тяжелым характером. Его ссору с Салтыковым описывает один из бывших рязанских чиновников следующим образом:
“Столкновение Михаила Евграфовича с губернатором произошло вследствие того, что последний непременно хотел провести одно дело в губернском правлении, а Михаил Евграфович наотрез отказался подписать формальное постановление, которое, безусловно, противоречило его внутреннему убеждению и совести”. Губернатор все-таки приказал написать постановление и прислать ему, что и было исполнено. “Не видя подписи вице-губернатора, губернатор снова направил журнал к Салтыкову для подписи, но Салтыков остался непоколебим и возвратил его неподписанным”. Тогда губернатор вызвал Салтыкова к себе, и между ними произошел нижеследующий разговор. Губернатор был очень сердит и в возбуждении прохаживался скорыми шагами, когда вошел к нему Михаил Евграфович, на вид совершенно спокойный.
– Так вы не хотите подписать журнал? – крикнул ему губернатор, как только его увидел.
– Повторяю, ваше превосходительство, не намерен! – спокойным, не допускавшим сомнений тоном отвечал Салтыков.
После этого и тот, и другой сказали друг другу несколько колкостей, о чем ходило по городу много различных вариантов.
Вызванный для личных объяснений в Петербург Салтыков был переведен на ту же должность в Тверь. В октябре 1867 года Салтыков опять появился в Рязани уже в должности председателя казенной палаты. Его перевели с той же должности из Тулы. Это вторичное его пребывание там было кратковременнее первого, так как в 1868 году он уже совсем вышел в отставку и отдался литературе, но, несмотря на это, все-таки успел приобрести ту же любовь и уважение своих новых сослуживцев и точно так же, как и раньше, “являлся защитником всех честных людей, ходатаем за всех обездоленных, нуждавшихся в помощи и в участии”. Несмотря на свое общественное положение и литературную известность, которая возросла настолько, что превратилась уже в настоящую славу, “он оставался все тем же простым, доступным всем душевным человеком, каким и был. Его правдивость, его простота, его участливое отношение к низшим ставились в образец и сами собою, помимо литературной славы, окружали его ореолом”. Много случаев, рисующих с этой стороны Салтыкова, рассказывалось и до сих пор еще живет в памяти стариков. Вот что, например, рассказывают о разборе им ссоры между казначеем и бухгалтером в городе Спасске. Казначей был старик из “высиженных”, т. е. получивший место не за заслуги, а за долголетие, и дело свое знал плохо, но показать этого не желал и был упрям и заносчив; а бухгалтер был из молодых и из новых, книжки читал, в газетах пописывал и дело свое знал отлично. Сцепились они сразу же: казначей делает какое-нибудь незаконное распоряжение, а тот не исполняет и сует, в свое оправдание, статью закона или циркуляр; казначей настаивает, а тот требует письменного приказания на бумаге и только такие предписания и исполняет, по обязанности подчиненного. Казначей начал писать Салтыкову донос за доносом, обвиняя своего противника “чуть ли не во всех преступлениях и в полном незнании дела”. Салтыков не вытерпел и поехал на место действия. Приехал он в Спасск в простой почтовой кибитке, чем несказанно смутил выехавшего ему навстречу исправника и удивил все спасское общество; а по приезде немедленно же запечатал кладовую и принялся, не говоря никому ни слова, за ревизию дел. Рассмотрев книги и дела, он в изумлении позвал бухгалтера и стал ему указывать на целый ряд неправильностей и ошибок.