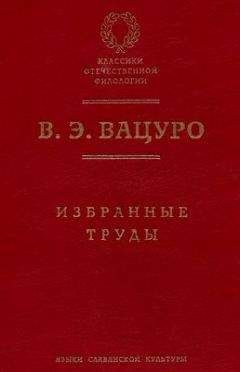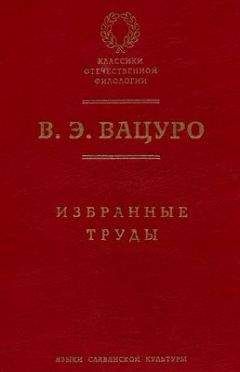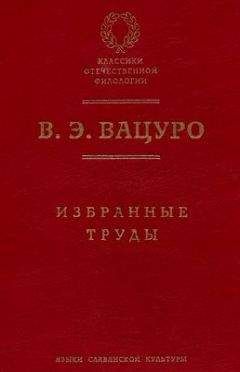8 мая 1820 года Пушкин выехал из Петербурга в южную ссылку. Накануне, 5 мая, Каразин, после длительных дебатов, был удален из общества «соревнователей». Члены не знали, конечно, о его доносах графу Кочубею, — но Каразин успел восстановить против себя левое крыло общества и публичными своими выступлениями[60].
Орест Сомов не застал уже Каразина в обществе, и сам он вовсе не принадлежал к числу ретроградов. Напротив, в ближайшие же годы он сблизится с либеральными и даже декабристскими кругами. Но литературно он тяготел к антиромантической партии, — во всяком случае, той ее группе, которая уже начала полемику с Жуковским.
Накануне его приезда в «Благонамеренном» была напечатана статья «Спор (отрывок из журнала Жителя Васильевского острова)»[61]. Псевдоним принадлежал князю Н. А. Цертелеву, с 1819 года действительному члену «Михайловского общества», в котором статья его и была прочитана и принята. Цертелев был сторонником Каразина, и его конфликты с партией молодых «либералов» начались еще в «ученой республике»; сейчас он нападал на литературного их учителя, Жуковского, упрекая его в усложненной метафоричности языка и в «таинственных мечтаниях», взятых у немецких поэтов. Вслед за тем Цертелев представил в общество и другую статью: «Письмо к г. Марлинскому», она была прочитана 7 июня, также принята и появилась в первом июльском номере измайловского журнала[62]. Здесь «Житель Васильевского острова» предлагал новый экспонат в кунсткамеру литературных уродцев, которую иронически советовал основать А. А. Бестужев (Марлинский): этим экспонатом было стихотворение Дельвига «Видение».
Итак, война была начата, — хотя, в отличие от Каразина, критики не обвиняли здесь поэтов в политической неблагонадежности. Измайлов смотрит на нее снисходительно и несколько иронически и готов пока что печатать и тех, и других. Ему уже несколько надоел «шум» в обществе, и он решил для себя отказаться от председательства. Впрочем, симпатии его принадлежат скорее «старикам», хотя Цертелева он, кажется, недолюбливает, считая «крикуном». Вместе с «братией» «крикун» убеждает его остаться формальным главой «михайловцев»; Измайлов соглашается.
Полемика тем временем ширится — и устно, и в печати. Орест Сомов включается в нее сразу же; он пишет критику на дифирамб Кюхельбекера из Вакхилида; Измайлов хотел напечатать ее, но цензор не пропустил.
Измайлов досадует, а тем временем собирается читать в обществе присланный Яковлевым «Кухмистерский стол», с резкими нападками на «начальника критической шайки» князя Цертелева, — благо последний в середине сентября уехал из Петербурга. «Только уже вы немилосердо его отделали! Право, мне его жаль стало! Впрочем, если цензура пропустит вашу пиесу, то я ее напечатаю»[63].
«Кухмистерский стол» в журнале не появился, — вероятно, цензор А. С. Бируков воспротивился и на этот раз.
* * *
Полемика — то тайная, то явная — разрывает «михайловское общество». В январе 1821 года Сомов, наконец, выступил против Жуковского под флагом «цертелевской партии». С Цертелевым у него, по-видимому, были связи довольно прочные; еще в 1818 году тот писал свою статью «О подражательной гармонии слова» в форме письма к «О. М. С.», — конечно, Сомову; а Сомов в свою очередь посылал ему из Парижа письма, которые печатались в «Благонамеренном» как корреспонденции[64].
Он демонстративно соотносит свою критику со статьями Цертелева: называет ее тоже «Письмо к г. Марлинскому» и подписывает: «Житель Галерной гавани». Второй абориген предлагал новый экспонат для кунсткамеры — балладу Жуковского «Рыбак». Статья появляется в первом номере журнала «Невский зритель»[65].
В защиту Жуковского выступили Булгарин, Воейков, Я. Ростовцев — и сам Марлинский. В своем ответе от 5 марта основатель литературной кунсткамеры уведомлял, что балладу Жуковского поместил в числе образцовых сочинений, а критику на нее — между уродцами[66].
Сомов отвечал в мартовском номере «Невского зрителя».
Измайлов подзадоривал ратоборцев. Он печатал Цертелева — а вслед за тем и пассажи из присланного ему Яковлевым «Чувствительного путешествия по Невскому проспекту»:
«Нападать явно на людей, которых она (публика. — В. В.) защищает — невыгодно! Надобно насмешки, ситации из Буало, ссылки на старинные книги; надобно каждому из нас преобразиться в какого-нибудь забавного старичка, жителя Васильевского острова, Бутырской слободы, Бродягу…»
Яковлев задевал Цертелева, Каченовского — «Жителя Бутырской слободы», В. В. Измайлова — «Московского бродягу», — и Ореста Сомова:
«Как не прочесть моей статьи, где я докажу, что … не поэт и подпишусь именем какой-нибудь рыбы — или „обитатель чердака у … моста?“»
Намек на «рыбу» был в литературных нравах времени. Воейков объявлял о готовящемся собрании сочинений «Таранова-Белозерова».
«Если ж кто-нибудь станет доказывать, что я не прав — тем лучше для меня! Я сделаюсь известным!»[67]
Яковлев все же нашел способ вступиться, хотя и косвенно, за друзей-лицеистов.
Измайлов сообщал Яковлеву и о другом участнике своего журнала, начиная с самых первых его номеров — идиллике Владимире Ивановиче Панаеве. Панаева в Петербурге не было; Яковлев мог застать его в Казани, его родном городе, — но как раз накануне Панаев уехал в деревню под Казанью, и они разминулись. Тем временем Российская Академия присудила золотую медаль 3-й степени за только что вышедшую книжку его идиллий, которые вот уже два года с лишком печатались в «Благонамеренном»[68].
И Сомову, и Панаеву будет принадлежать важная роль в жизни салона Пономаревой.
Но Измайлов еще этого не знает, как не знает и о том, что вскоре в кружок войдет Евгений Баратынский, молодой поэт, примкнувший к лицейскому братству, приятель Дельвига и самого Яковлева. Баратынскому всего двадцать лет, — но биография его уже омрачена: за школьническую шалость он исключен из Пажеского корпуса и ему закрыты все пути, кроме солдатской службы. Он унтер-офицер Нейшлотского полка, квартирующего в Финляндии, и пока что находится в Петербурге — до 1 марта 1821 года.
В начале года в Петербург возвращается Панаев — 27 января он присутствует на заседании «Михайловского общества» — впервые после длительного перерыва[69]. Он приезжает победителем; неожиданное для него самого увенчание его книжки медалью Академии доставляет ему репутацию «русского Геснера». Поэт и вологодский помещик П. Межаков спешит записать в его альбом преувеличенную похвалу: