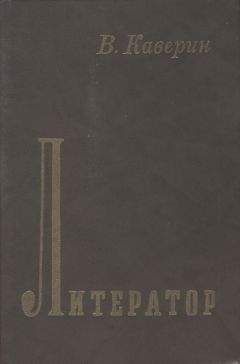Этот человек — вы, это — художник. Это очень хороший «герой» в то же время. Все, что написал Л. Толстой, он написал о себе, так же, как Пушкин, Шекспир, так же, как Гёте.
Вам особенно не следует бояться быта и нет нужды отрицать его, ибо у вас есть все задатки для того, чтоб легко превратить тяжелое «бытовое» в прекрасную фантазию. В конце концов — все великолепные храмы наши создаются нами из грязной земли.
В заключение: я думаю, что пришла пора немножко и дружески посмеяться над людьми и над хаосом, устроенным ими на том месте, где давно бы пора играть легкой и веселой жизни. Мы достаточно умны для того, чтоб жить лучше, чем живем, и достаточно много страдали, чтоб иметь право смеяться над собой.
Мне все кажется, что вы — из тех, кто должен хорошо понимать это. Несмотря на вашу молодость, которая, впрочем, никогда не порок. Будьте здоровы, дорогой Каверин.
А. Пешков
15.1.24
Ходасевич посылает вам привет, Берберова[72] — тоже.
Горький — Каверину
Рассказы присылайте: теперь «Беседа» допущена в Россию, и гонорар будет издателем увеличен. Разумеется, что рассказы, которые пойдут в «Беседе», уже нельзя печатать в других периодических изданиях.
Да, Лунца страшно жалко[73]. В 5-й книге «Беседы» будет напечатана его последняя пьеса. Необходимо собрать и издать все, написанное им[74].
Для того, чтоб мне писать о нем[75], я должен иметь пред собою его вещи — не можете ли вы прислать мне «Бертрана», «Обезьян»[76], «Вне закона»[77].
Буду очень благодарен.
Всего доброго, тороплюсь отправить письмо.
А. Пешков
21. VI.24. Sorrento
Каверин — Горькому
22/VI— 24
Дорогой и многоуважаемый
Алексей Максимович!
<…>Я уже влез с головой в мой роман[78] (роман ли?) и пишу с утра до вечера.
«Бочка» моя наконец выкатилась в свет (не вспомню, писал ли я вам об этом рассказе), и я жду отзывов — разумеется, ругательных. Здесь насчет новой литературы — тихо. Серапионы разъехались на лето; за последнее время никто не писал ничего нового — кроме Тихонова, который работает неустанно, и Федина, который медленно, раздумчиво, осторожно кончает «Города и годы».
Все другие — молчат (это еще хорошо) или пишут хуже, чем писали (Никитин, который совсем выдохся на своем материале, и Иванов, который начал терять себя на чужом[79]).
Из новых журналов — «Русский современник»[80], известный вам, — и больше, кажется, ничего. Здесь Шкловский; он много пишет, еще больше печатает и единственный из русских писателей приезжает в Питер за деньгами. «Сентиментальное путешествие»[81] наконец здесь выходит.
Я посылал вам оттиск «Бочки» — не знаю, получили ли вы (я как-то перепутал адрес).
Когда будет готов роман — непременно и в первую голову пошлю его вам, дорогой Алексей Максимович!
Больше никому не верю — никто про самого себя не знает, как пишет и что делает.
Все как-то потеряли свою дорогу — пишут по инерции и без прямой к тому необходимости. Русскую книгу становится трудно читать — это, по-моему, перед чем-то новым.
Будем ждать и работать (и барахтаться — без барахтания — ничего не выйдет).
Ну, всего доброго и сердечный привет.
Ваш В. Каверин
Каверин — Горькому
Дорогой Алексей Максимович, спасибо вам за добрый отзыв о моей книге[82]. Он догнал меня уже в Ессентуках, вот почему я тотчас же вам не ответил. Вы немного огорчили меня, написав, что «барон Брамбеус» — это работа беллетриста. Я все же надеюсь, что моя беллетристика не помешала науке; если бы книга была построена иначе и написана по-другому — выводы ее и основные тезисы нисколько бы не изменились. Мне легче было писать так, но принялся я за дело только тогда, когда убедился, что стиль книги не мешает ее достоверности исторической и историко-литературной.
Может быть, вы и правы, утверждая, что я несколько сузил фигуру Брамбеуса, рассмотрев его преимущественно со стороны его журнальной работы. Но именно эта сторона, являющаяся богатым материалом для изучения 30-х годов, и была обойдена или искажена традиционной историей литературы.
Спасибо вам за сердечное ко мне отношение. Разумеется, я вовсе не собираюсь менять беллетристику на науку. Но наступает подчас такое время, когда устаешь от постоянных размышлений над прозой, неизменно приводящих к тому, что все, что написано, написано не так и все надо начинать сначала. Тогда наука начинает казаться делом более высоким и достойным, чем литература с ее тактикой, политикой и возней мелких честолюбий.
Впрочем, я сижу сейчас над новой повестью[83],— сообщаю это вам, чтобы вы не подумали, что я стал брюзгой или разочаровался в русской литературе.
Всего доброго.
В. Каверин
20/VII—1929 г. Ессентуки
Комментарий:
Уже тогда я понимал невозможность связи с «психологической окраской», о которой писал мне Горький. Очевидно, именно тогда я и стал учиться писать характеры, готовя себя к тому жанру, которому впоследствии отдал годы и десятилетия работы. В моих первых рассказах характеры заменялись ничего не говорящими фамилиями, наименованием ремесла, определением профессии — не случайно первая моя книга называется «Мастера и подмастерья».
Фабула рассказов, которые я посылал Горькому, нарочита сложна, но, в сущности, элементарна. Это именно фабула, в тыняновском значении этого слова. Он думал, что сюжет — это общая динамика вещи, которая складывается из взаимодействия между движением фабулы и движением-нарастанием стилевых масс. Действие большинства рассказов происходит в Германии, и книжное происхождение их не вызывает сомнения. В ту пору мне казалось, что замыслы этих рассказов оригинальны, теперь я вижу, что упреки в подражании Э. Т. А. Гофману были справедливы. Недаром же в день 100-летней годовщины его смерти я обратился к Серапионовым братьям с речью, посвященной этому замечательному писателю, юристу и музыканту. К. Федин, один из Серапионов, напечатал ее в журнале «Книга и революция» — он был одним из редакторов этого журнала. Стоит привести ее здесь хотя бы в цитатах, потому что она многое объясняет в той полосе моей работы, которую смело можно назвать допрофессиональной.