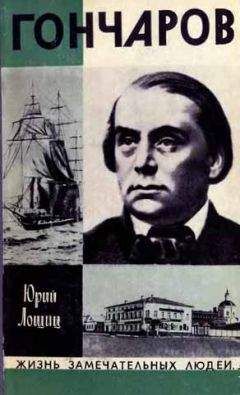…Он не высыпается толком в эти первые месяцы жизни в Петербурге. Нужно привыкнуть к светлым ночам. Нужно особенно много работать сейчас, чтобы зарекомендовать себя с лучшей стороны, — работать и после службы, на квартире. Нужно научиться засыпать и просыпаться под крики дворников и извозчиков, мастеровых и торговок.
Никогда он еще не жил так быстро.
Он быстро и помногу ходит. Быстро заполняет страницы фразами переводов. Быстро озирается, переходя улицу. И все в этом городе совершается быстрее, чем за его пределами. Здесь и часы, и целые дни летят быстрее. Даже литургия в здешних храмах кажется короче.
Единственное, что он может здесь делать медленно, — это нить горьковатый напиток одиночества. Одиночества и свободы от еще не заведенных знакомств.
Впрочем, и эта пора быстро прервется.
Существует предположение, что с Майковыми Гончарова познакомила Юнинька Гусятникова. Та самая Юния, Юнечка, Юнинька, в которую он как будто еще в Москве был слегка влюблен в студенческие свои времена. Юнинька приходилась племянницей Евгении Петровне Майковой, в девичестве тоже Гусятниковой.
Николай Аполлонович Майков, жених, а затем и счастливый супруг семнадцатилетней Евгении Петровны, как ни был родовит[1], а все же щедрое невестино приданое (от отца-золотопромышленника) очень и очень его поддержало. Сам он был сыном директора императорских театров, поэта и комедиографа, и вырос в среде художественно-артистической. Юношей Николай Майков сражался на Бородинском поле, потом с победоносной армией союзников дошел до Парижа.
Будучи уже в майорском звании, Майков подал в отставку — ему захотелось посвятить себя живописи. С годами в облике Николая Аполлоновича стали преобладать черты, которые непременно налагает на всякого человека принадлежность к цеху художников. Густая грива до плеч, вольного покроя рубашка, небрежно повязанный галстук, особая цепкая острота во взгляде. Если и осталось в нем еще что-то воинское, офицерское, то лишь в твердом подбородке, в глубокой морщине над переносьем. Впрочем, внешность обманчива. Николай Аполлонович в душе был мягок, доверчив, с неизмеримо большим даром голубиной кротости, нежели змеиной мудрости. Да и картины писал — не какие-нибудь батальные сцены, а все портреты — ближних своих и знакомых, а то и вообще вымышленных лиц. Работал акварелью и маслом, карандашом и пастелью. В качестве образца почитал вещи старых венецианцев. Но неожиданно успех и известность ему принесли не портреты, а выполненные на заказ иконы — сначала запрестольный образ для Троицкого Измайловского собора (за этот образ вдруг удостоили его звания академика живописи), а потом один из иконостасов Исаакиевского собора. Знатоки говорили, что в иконах майковских многовато чувствительности, едва ли не сентиментальности, но, впрочем, это и модно было тогда — так представлять себе святость. А в остальном — по-своему искреннее, не лишенное внутренней теплоты искусство.
У Майковых подрастало трое сыновей. Первенцу, Аполлону, было теперь уже четырнадцать. Всего на два года младше его Валериан, материн любимец, так похожий на Евгению Петровну утонченными чертами лица. Подрастал и самый юный из братцев — Володя. А через четыре года прибавится и еще один — Лёнюшка.
Таким вот увидел и узнал это семейство Иван Гончаров в первое свое петербургское лето 1835 года. Всего год как Майковы оставили Москву и переселились в столицу. Всего год как и юноша Гончаров разлучился с университетскими комнатами на Моховой, напротив Кремля. И они и он еще жили памятью о старой, приветливой первопрестольной. Тем легче, непринужденней было им здесь, на Севере, познакомиться, а затем и сдружиться.
Детки с гораздо большим вниманием слушают уроки, когда обучает их уму-разуму человек сторонний, непримелькавшийся, свежий.
Учителем и попал в дом на Садовой молодой Гончаров. Кроме Юниньки, наверняка замолвил за него слово перед Майковыми и Владимир Андреевич Солоницын, под руководительством коего Гончаров начал в Петербурге свое служебное поприще в Департаменте внешней торговли. Завсегдатай майковского дома, Солоницын стал первым наставником мальчишек. Он вел занятия по точным дисциплинам и набрасывал перед учениками картину их будущей образцовой деятельности в том же самом Департаменте внешней торговли. Государству нужны люди практической хватки, чтоб не провел их никакой заезжий финансист либо негоциант.
Гончарову досталось преподавать отечественную словесность, эстетику и латинский язык. Ребята новому педагогу понравились. Живые, говорливые, с пастельным румянцем на милых личиках, будто вывозили щеки в отцовой мастерской, с такими держи ухо востро! Дай только волю — засыплют ворохом вопросов, лишь бы только сбить строгую последовательность очередного занятия. И вот вместо утомительного урока — летучая беседа с прихотливыми отвлечениями то в дебри истории, то в сокровищницы искусств…
В Аполлоне больше чувствуется жар непосредственности, отцовское тяготение к пластическим образам: грезит стихами, образами далеких стран и эпох, в ученическом столике его — клочки каких-то прозаических зачинаний, вороха акварельных набросков.
Валериан более собран, сосредоточен, предпочтение отдает естественным наукам, хотя и литература его по-своему волнует, трогает глубоко. Так ли уж подойдут эти ребята для солоницынского департамента?
Прошло всего несколько недель занятий, и Гончаров стал в этом доме как свой. Его начали приглашать и во внеурочное время. Когда может.
Несмотря на постоянные, ежеденные труды Николая Аполлоновича в мастерской, несмотря на немалую занятость Евгении Петровны хозяйственными и родительскими хлопотами, Майковы почти сразу зажили в Петербурге широко, с гостеприимством московского пошиба. Более того, они всерьез решили завести у себя художественный салон.
Но это лишь сказать легко: заведем-ка у себя салон. Для такого предприятия нужны не только деньги немалые, не только просторная квартира. Перво-наперво нужна какая-то идея, то, что называется щепотка соли. Петербург был известен и чисто аристократическими, великосветскими собраниями, которые посещали лишь люди с громкими именами и отменных репутаций. С другой стороны, немало насчитывалось в городе компаний и разудалых, где главный упор ставился не столько на литературный или художественный интерес, сколько на разгул весьма скандального пошиба.
Майковы постарались избежать крайностей: не засушить свое собрание высокомерием и сословной брезгливостью, но и тут же уследить, чтобы дом их не превратился в вертеп для всяких бонвиванов и болтунишек. Наконец, поскольку новый салон даже в таком громадном городе сразу же оказывался на виду у лиц, покровительствующих внутреннему спокойствию, надо было и тут не сделать оплошности — не подвести ни себя, ни своих гостей.