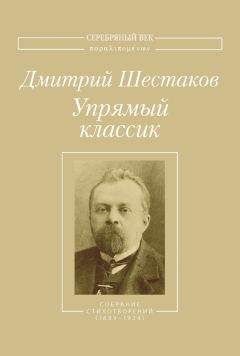— Это солнце в крови — чертовски хорошо.
Я смешалась, улыбнулась и не решилась ему сознаться, что у Ростана никакого «солнца в крови» нет, что это моя выдумка.
Он отошел от меня, а я спросила кого-то рядом, кто этот молодой человек.
— Максим Горький! Разве вы не знаете его?
О, я ли его не знала! Давно ли появились его первые рассказы — и точно повеяло свежим ветром в нашей литературе. А ведь тогда еще были Толстой, Чехов, Короленко, Мамин-Сибиряк и многие другие. Однако появление Горького сразу было отмечено и сразу он занял свое место, как настоящий пролетарский писатель. Вот я вспоминаю его выражение, поразившее меня в рассказе «Мальва»: «Море смеялось», этих двух слов было для меня достаточно, чтобы в свое время понять его талант, как иногда довольно одного слова, чтобы определить нравственную сущность человека. Я сидела за ужином недалеко от Горького, глядела на него и невольно вспоминала того Ростана, о котором он с таким восхищением говорил.
Я спрашивала себя: а понял ли бы Горького и оценил бы его так же высоко Ростан? Какие полярные противоположности!
Изнеженный, женственный Ростан, похожий на силуэт с рисунков Гаварни, — и этот богатырь в своей рабочей блузе…
Там в начале карьеры — розы, Розмонда, изящный особняк, академия. Здесь — волжские грузчики, жизнь впроголодь, скитания. Там — поклонение Парижа, приемы, премьеры… Здесь — тюрьма, высылка, нелегальные приезды в Москву или в Петербург…
Потом вскоре после этого мне пришлось сотрудничать вместе с Горьким в газете «Северный курьер». Горький поместил там рассказ, который оканчивался строками, которых я никогда не забуду: «Литература есть трибуна для всякого человека, имеющего в сердце горячее желание поведать людям о неустройстве жизни и о страданиях человеческих и о том, что надо уважать человека, и о необходимости для всех людей свободы, свободы и свободы».
Помню, как тогда мы, студенты, устраивали концерт в честь М. Горького. Я прочла тогда с эстрады стихи, посвященные ему, и в последней строфе выражала уверенность, что Горького ждут и слава и свобода…
Жизнь Горького была горением. Но как это было не похоже на Ростана, который говорил, что жизнь надо жечь с двух концов.
Горький для нас в то время был больше, чем просто талантливый писатель. Он был живым доказательством того, на что способен русский народ даже в тех условиях.
Горький поднялся до высочайших вершин культуры и достиг этого самостоятельно, проломив всю толщу невежества, гонений и преследований. Радостно мне было видеть, — продолжала Татьяна Львовна, — что этот человек, не требовавший наград, получил их еще при жизни, увидев многие свои мечты осуществившимися.
Он дожил до славы и свободы — не только своей, но и своего родного народа, и ушел оплаканный этим народом.
А за несколько лет до того умер Ростан в одном и красивейших уголков Европы: умер в тяжелой меланхолии, уединившись на своей вилле, прячась от дневного света за спущенными драпировками, чтобы не впустить в окно той красоты мира, о которой когда-то так радостно пел…
Татьяна Львовна отложила лист и, сев рядом со мной, вдохновенно продолжала:
— Да, это верно. Вот в будущем году выйдет моя книга воспоминаний, там почитаете обо всем, где я была и что видела, — и спохватившись: — Да вы кофе-то совсем заморозили и бутерброды кушайте, как следует, не стесняйтесь. Нам сегодня их много принесли по заказу. И опять же это все мой ангел заботится, я и не знала…
— Я вас задерживаю, Татьяна Львовна. Вам работать нужно?
— Нет, нет. Ничего, успею. Ведь такая редкая встреча…
И никто из нас тогда не знал, что это была первая и последняя наша встреча.
А Татьяна Львовна была такая веселая и ласковая.
— Сколько вы пробудете в Москве-то?
— Право, не знаю, нахожусь в зависимости от литературного музея.
— А где остановились-то?
— У Короленко-Ляхович.
— Через недельку мы думаем перебраться на дачу. Пока не уехали — заходите.
Эти провожающие меня милые, добрые старушки, это книжное богатство, бюсты, портреты вскружили мне голову. Куда ни посмотришь, везде книги: в шкафах, на полках, на тумбочках, на стульях — десятки книг оригинальных произведений и переводов Татьяны Львовны.
Щепкина-Куперник дала русской сцене ряд пьес, из них самые интересные: «Одна из них», «Барышня», «Флавия», «Флавия и Тессини», посвященные печальной судьбе русской актрисы в дореволюционном театре. Великий прадед Щепкиной-Куперник был одним из тех художников театра, которые с особой силой и глубиной раскрывали на сцене трагедию маленького человека, угнетаемого тяжкой социальной действительностью. Эта щепкинская тема была основной для его правнучки в сборниках рассказов. «Ничтожные мира сего», «Незаметные люди», «Около кулис».
Многие рассказы Щепкиной-Куперник встречали высокую оценку А. П. Чехова.
Сборник рассказов «Это было вчера», правдиво отражавший эпоху первой революции, был сожжен по приговору суда. Пьеса Щепкиной-Куперник «Счастливая женщина» была запрещена для постановки в Малом театре и могла появиться только на частной сцене, да и то с переделкой последнего акта, изображающего смерть ссыльного революционера в Сибири. За эту пьесу общество драматургов, основанное Островским, присудило Щепкиной-Куперник Грибоедовскую премию.
С каким глубоким волнением и трепетом я переступал порог этого дома, словно переходил какой-то рубикон. Но там, за этим порогом, оказались самые простые человеческие сердца, все то, что я так любил, перед чем преклонялся. Артистка и поэтесса, драматург и романистка — все совместилось в этой живой маленькой женщине. Но самое ценное в Татьяне Львовне то, что она чудесный человек. А «должность быть настоящим человеком на земле — самая почетная…»
Переписка наша продолжалась. В следующем, 1948 году мы с женой переехали из Ярославля в Енисейск к дочери, и там я получил от Татьяны Львовны книгу «Театр в моей жизни».
Трудно представить, сколько радости принесла мне и моей жене эта книга.
Моя жена простая, малограмотная волжская рыбачка, сильно любила эту книгу и как-то по-особенному, по-своему. Как только откроет ее, так и пойдут у нас с ней разговоры о жизни и деятельности какого-нибудь актера. Глубокие, радостные воспоминания навевала нам эта книга в далекой сибирской таежной глуши.
В 1952 году я долго находился в Москве. Хотел навестить Татьяну Львовну, но она была больна и находилась на даче. Посещая книжные магазины, музеи, театры, я встречал своих друзей. Восхищался великолепием преобразованной Москвы с ее высотными зданиями, Ломоносовским университетом, преклонялся перед беспредельными взлетами человеческого гения.