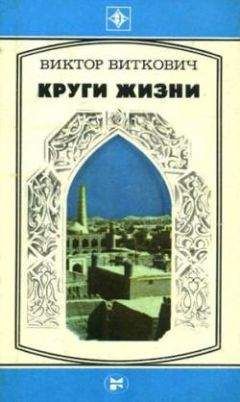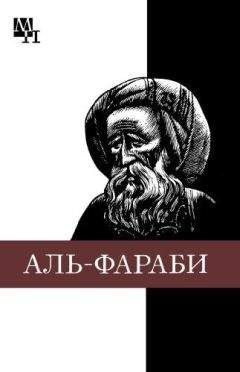Навестил и Корженевскую, встретила меня Евгения Сергеевна радушно, угостила. Во время первого толчка дом, в котором она жила, тоже прыгал и скрежетал. Хотел задать ей вопрос — почему не переселилась, как ее сосед, в палатку, во двор? — да вовремя удержался. Глупый вопрос! Ей, Евгении Корженевской, дрожать от страха перед стихиями?!
Буквально на второй день после землетрясения тут сумели организовать уличный быт! Рестораны расставили столики прямо на мостовых, открылись уличные парикмахерские, уличные камеры хранения вещей. В палатки переселились медицинские пункты, сберкассы, отделения связи, универмаги и магазины. Палатки, палатки… И вот на их месте — современный громадный город, с которым меня роднит словно бы подсушенное солнцем небо, и то, как асфальт белеет сквозь зелень листвы, и на проспектах многоязычная речь…
Ташкент выдержал испытание стихией. А наша с тобой дружба? Она выдержала испытание временем — хоть и с бурями, с подводными камнями, с порогами. Ну а если ворвется стихия? Выдержит ли дружба это испытание? Ведь со стихиями шутки плохи. При них нельзя быть равнодушным к друзьям. Вот истинное испытание сердца! Но я здесь, а ты… Впрочем, еще Гоголь говорил: «На свете большей частью бывает так, что одна вещь находится в одном углу, а другая, которой следовало бы быть возле нее, в другом…» Я здесь, а ты далеко: так далеко, что у меня очень длинные дни.
10 апреля. Ташкент
Прекрасно ранним утром в садике Козловских. Поют дрозды на свой особый флейтовый манер. Воздух… чудо! Запахи тополевых весенних клейких листочков. Садык, садовник и цветовод, старый друг семьи Козловских, разделал сад в чисто узбекском вкусе. В глубине купы персиковых и вишневых деревцев, кусты гранатов и цветущей японской айвы. В стороне полуарка виноградника. Посреди садика водоем.
Вставши, неумытый, чтоб не тревожить хозяйку, вышел в сад, извлек из футляра свою «колибри» — поговорить с тобой. Рядом Гоппи — ручной журавль, смешно приседая и кланяясь, танцует для меня свой танец. Танцует он его только перед мужчинами, а женщин, даже Галю (может, он журавлиха?), танцем не удостаивает. Летел в журавлином косяке, кто-то подстрелил, упал в садик Козловских, Алексей его выходил, научился и сам курлыкать по-журавлиному. Спал Гоппи обычно в комнате, стоя на одной ноге возле дивана Алексея, спрятав голову под крыло. Когда Алексей окликал его журавлиным гортанным возгласом, из-под крыла раздавался ответ.
Случалось в первые годы (сколько раз видел!) — на журавля нападала тоска по стае. Поднимет клюв к поднебесью, откинув две пряди седых волос, издаст трубный крик… Ни звука в ответ. Ни звука! Наклонит в раздумье голову, в фигуре его совершенно человеческая тоска. Но глаз красный — не человеческий, птичий, и, кажется, лишен всяких чувств.
Сколько лет прошло с тех пор, а журавль все еще жив. Теперь уже можно смело сказать: когда с подбитым крылом рухнул сюда, ему подвезло — попал в человечные руки. Его собратьям, египетским журавлям-красавкам, подвезло меньше: за эти годы журавлиные стаи так поредели от выстрелов, что красавки угодили в Красную книгу.
Нынче страстью Гоппи сделался телевизор: едва Галя включает его, прибегает из садика в дом, стоит на одной ноге, глядит не отрываясь. Всех потряс Гоппи в годовщину смерти Алексея: собрались в доме друзья, кто-то принес и включил магнитофонную запись говорящего Алексея. Что сделалось с журавлем! Кинулся по всем углам искать хозяина, тыкаясь всюду головой, призывно крича и жалуясь… Пришлось выключить магнитофон, но журавль долго не успокаивался. Кто мог ждать такое от птицы?
Хочется рассказать тебе побольше об Алексее… Невысокий, плотный, стремительно поворачивавшийся к собеседнику, поблескивавший глазами, всегда взметенный, шуткой отвечавший на шутку. Удивительная память! Цитировал наизусть целыми страницами Гоголя и Толстого, Пушкина и Пастернака. Знал великих композиторов прошлого, будто близких друзей.
Бывало, спросишь: «Как написал Шопен такой-то этюд? Когда и при каких обстоятельствах Лист создал такую-то вещь?» Расскажет так, что возникнет живая картина: где и когда написано, среди какой природы, среди каких людей, в каком драматическом повороте жизни, какие вокруг были разговоры, восклицания, отзвуки… Не ответ, а целая историческая новелла!
Удивительно ли, что люди влюблялись в Алексея. Анна Ахматова посвятила ему несколько стихотворений и часто заглядывала в гости, когда жила в Ташкенте, а уехав, писала письма из Ленинграда. Приехал на гастроли, вернувшись из заграницы на родину, Вертинский, побывал у него и писал до самой смерти письма.
Шутки и затеи без конца! Отправился как-то Алексей в Бухару, впервые в жизни. Сговорясь с Галей, уезжая, оставил ей семь писем. На конвертах числа: распечатать тогда-то… Каждый вечер собирались у Гали друзья Алексея, среди них композитор С. Н. Василенко. Галя распечатывала «свеженькое, прямо с почты» письмо и читала вслух. Описывалась Бухара, что ожидал увидеть, в чем обманулся, какие неожиданные подарки подбрасывала ему в поездке судьба, рассказывал веселые дорожные случаи… Письма выслушивались с живейшим вниманием, обсуждались. Вернулся Алексей через неделю, все собрались, и когда смолк одобрительный хор голосов по поводу писем, Алексей признался в розыгрыше и рассказал о подлинной поездке.
За шутливостью Алексея, за пустячной болтовней ни о чем угадывалось нежное сердце, которое стыдилось быть напоказ. Ведь именно, чтобы не быть напоказ, — буйство шуток и нескончаемая изобретательность в совершенно детских проделках. И это издавна… Еще Константин Сергеевич Станиславский называл Алексея «стрункой» театра.
Нет, ты послушай! В тридцать первом году Алексей кончил Московскую консерваторию по классу Н. Я. Мясковского. Станиславский попросил рекомендовать ему способного молодого дирижера «без рутины». Рекомендовали Алексея: музыку писал с шести лет, «Героическая увертюра», исполненная при выпуске из консерватории, пленила всех свежестью. Когда Алексей вышел первый раз за пульт, Константин Сергеевич сказал:
— У вас некоторая скованность в руках. Но я вам сейчас ее развяжу. Выходя на сцену, поправляйте себе запонку.
С тех пор этот жест на всю жизнь.
Блестящий взлет музыканта. Дирижер у Станиславского. И успех первых собственных сочинений. На беду! Приехал с гастролями из США Вильямсон — главный дирижер «Вестминстерского хора», попросил показать партитуры хоров советских композиторов. Из сотен хоров выбрал «Сюиту для хора а капелла» Козловского, увез исполнять в Америке. Потом по просьбе Вильямсона Алексей отослал ему второй хор.