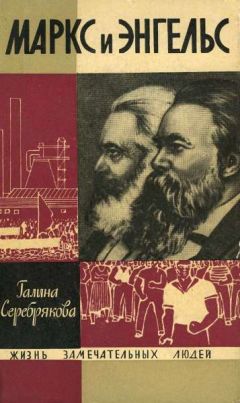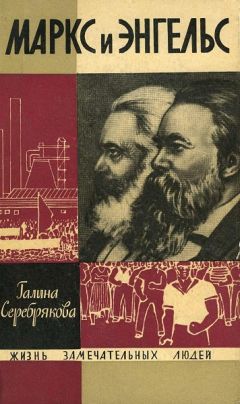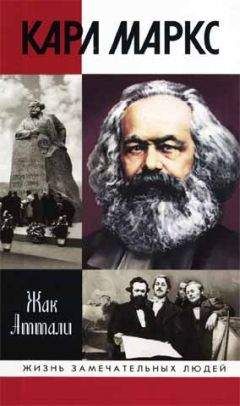— Кого? — улыбнулся Ганс. — Бедняка с богатым, плебея и аристократа-плутократа. До свидания, молодой человек! Мы еще поговорим при случае.
Карл вернулся в аудиторию в глубоком раздумье. Слова Ганса отвечали каким-то уже мелькнувшим у него самого мыслям.
Эпоха революций…
Вначале Карл с увлечением записывался на лекции по самым различным научным дисциплинам. Его специальностью должна была стать юриспруденция. Одновременно он хотел работать по философии и истории. Заинтересованный другими малознакомыми предметами, он брался за них независимо от того, в какой связи они находились между собой. Его одинаково увлекали и шекспировская комедия, и лекции Риттера по географии, и пандекты напыщенного маститого профессора Савиньи. Но, аккуратно посещая некоторое время лекции по церковному праву, логике, судопроизводству, теологии и филологии, Карл быстро пришел к выводу, что, за исключением Ганса да еще двух-трех профессоров, преподавание в Берлинском, как и в Боннском, университете поручено скучным, трусливым людям, раз навсегда вызубрившим и из года в год все более высушивающим свой предмет.
Он не мог довольствоваться этой плоской передачей мыслей, найденных умами более сильными и оригинальными, чем их случайные толкователи. Посещение лекций теряло для него свой первоначальный смысл. Он перестал писать конспекты. Старые профессора очень скоро были разгаданы им: большинство просто тянуло лямку науки. Одни были бы гораздо более на месте на церковной кафедре, другие — в канцелярии интендантства. Худшие отличались цепкой наглостью, пронырливым невежеством и беспредельным ханжеством.
О том, каким мог и должен был бы стать университет, говорили молодые смелые ученые вроде профессора Ганса и доцента Бруно Бауэра. К последнему Карл присматривался с особенным вниманием.
Оба были гегельянцами, оба многое переняли у своего великого учителя. Карл твердо решил также заняться Гегелем. Начал он подумывать и об университетской кафедре.
Будущее принадлежало новым людям, его, Карла, поколению. Чем больше он размышлял, тем больше склонялся к выводу, что научная карьера не помешает литературной.
Нередко, придя домой из университета, Карл доставал потрепанные тетради своих стихов. На первом листке необычайно разборчивым почерком он вывел посвящение: «Моей дорогой, вечно любимой Женни фон Вестфален».
Перелистав несколько страниц, он нетерпеливо вскакивал из-за стола. Долго сидеть на одном месте он вообще не умел, не мог. Принимался без конца шагать по комнате, не замечая пространства. Он переделывал на ходу отдельные строки своих творений. Стихов было уже немало. Он по-прежнему колебался в их оценке. Кроме стихов, Карл принялся за прозу. Восемнадцать главок уже написано…
Забывая о только что прочитанном пункте уголовного судопроизводства и изучаемых принципах прусского гражданского права, он возвращается к столу, чтоб продолжать начатую повесть. В предстоящей главе по замыслу нужно описать «ее» глаза — глаза героини. Будут ли это глаза Женни?
«Милая, она может думать, что, не имея возможности ее видеть, я охладею, я забуду! Как мало она знает меня!»
Его одолевает неистовство страсти и тоски. Это похоже на вдохновение. Нет, героиней его книги будет не Женни, она будет ее противоположностью. Так будет разумнее.
«Глава девятнадцатая…» — выводит он неуверенными, беспокойными буквами и продолжает:
«И были у нее большие голубые глаза, а голубые глаза обыкновенно — как вода Шпрее.
Глупая алчущая невинность заявляет о себе в них, невинность, жалеющая самое себя, водянистая невинность; при приближении огня она испаряется серой дымкой; и далее нет уже ничего за этими глазами, весь их мир голубой, их душа — синильщик. Карие же глаза — идеальное царство; бесконечный одухотворенный мир ночи дремлет в них; вспыхивают в них молнии души, и взоры их звучат, как песни Миньон, как далекая, полная неги, знойная страна, где живет божество, обладающее изобилием, что упивается своей собственной глубиною и, погрузившись во всеобъемлемость своего бытия, излучает бесконечность и терпит бесконечность. Мы чувствуем себя как бы скованными чарами, хотели бы прижать к груди мелодичное, глубокое, полное чувств существо и пить душу из его глаз и слагать песни из его взоров».
Глаза Женни карие, переменчивые, глубокие. О них пишет Карл.
Женни фон Вестфален — красавица. Он любит ее с неистовством неугомонного Роланда. Нет, проза тривиальна, как вода реки Шпрее. Он отбрасывает начатую главу ради новых стихов к невесте.
Карл принялся за изучение Гегеля. В университете он бывал все реже. Посещал по-прежнему прилежно только лекции Ганса и Бауэра. Он решил лично познакомиться с Бауэром, но покуда еще медлил. Хотел встретить молодого гегельянца, когда будет во всеоружии, ибо поставил своей задачей овладеть основами учения его учителя. И всю эту зиму он держался вдали от берлинцев, вел жизнь по-прежнему уединенную. Книги, впрочем, заменяли ему людей, когда дело шло о познании той или иной философской системы. Он умел подбирать и изучать книги, как никто.
Медленно Карл перебирает письма родных. Он снова в Трире. Снова отец делится с ним своими честолюбивыми надеждами:
«Я надеюсь, мой сын, дожить до дня, когда твое имя прогремит и слава увенчает тебя».
«Я знаю, честолюбие мое — признак слабости, эгоизма, пустого тщеславия. Но я верю в тебя и в твое будущее. С такой ясной головой ты не заблудишься в мире и добьешься карьеры легче, чем твой отец».
В этот раз письма из Трира посвящены Женни. Генрих Маркс перенес и на нее любовь, которую он питает к сыну. Карл трепетно, подолгу перечитывает каждую строчку, относящуюся к невесте. Как приняла Женни посланные ей стихи? «Она заплакала», — пишет Софи.
«Женни любит тебя, — успокаивает его сестра. — Если разница лет причиняет ей горе, то это только из-за ее родителей. Она будет теперь постоянно подготавливать их; затем напиши им сам; они ведь тебя очень ценят. Женни часто нас навещает. Еще вчера она была и, получив твои стихи, плакала слезами счастья и боли. Наши родители и братья любят ее сверх всякой меры; раньше десяти часов ей не позволяют уходить от нас, — как это тебе нравится? До свидания, милый, добрый Карл, прими мои самые сердечные пожелания исполнения твоих самых сердечных желаний…»
Наступила весна 1837 года. На Старо-Лейпцигской улице, где жил Карл, стало непроходимо грязно.
В Тиргартене несмело распускались рахитичные, уже пыльные почки на низких деревцах. Липы стояли еще оголенные. Ветер гнал по аллеям песок, ловко целясь и запуская его в глаза прохожим. Молодой студент разочарованно оглядел этот жалкий оазис и свернул на Унтер-ден-Линден, намереваясь зайти в ресторацию выпить кофе с хрустящими прославленными безе и просмотреть газеты.