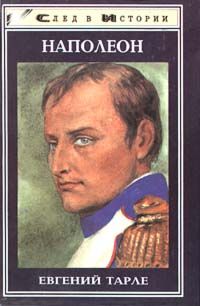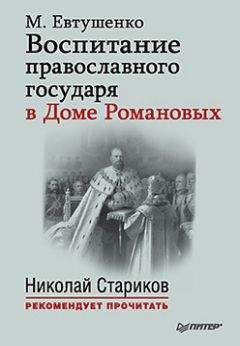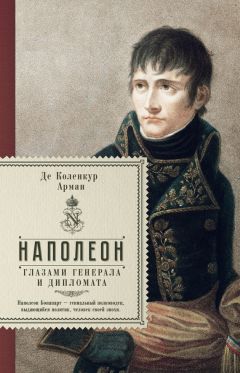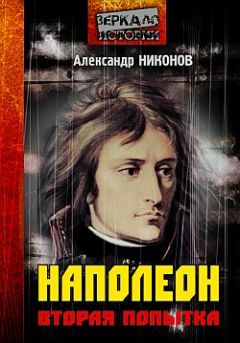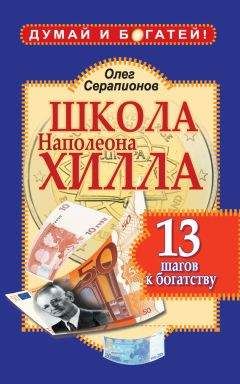До апреля 1816 г. главное начальство над островом принадлежало адмиралу Кокбэрну, а с апреля 1816 г. до самой смерти Наполеона губернатором был Гудсон Лоу. Этот Лоу был тупым и ограниченным служакой, боявшимся всего на свете, а больше всего — своего пленника. Лоу был подавлен чувством ответственности, страхом, что Наполеон снова бежит. Вместе с тем по инструкции, данной губернатору, Наполеон пользовался свободой, выходил и выезжал куда угодно, совершал верховые прогулки, принимал или не принимал кого ему заблагорассудится. Наполеон с самого начала был в непримиримо неприязненных отношениях с Гудсоном Лоу. Он почти вовсе отказывался принимать губернатора, не отвечал на приглашения к обеду на том основании, что они были адресованы генералу Бонапарту (Англия была с Наполеоном в войне с 1803 г., когда он еще не был императором). Были на острове также представители держав: Франции, России, Австрии. Наполеон принимал иногда путешественников англичан и неангличан, которых по пути в Индию или в Африку (или из Индии и Африки в Европу) заносило на остров Св. Елены.
Был прислан и размещен в единственном городке Джемстоуне, расположенном далеко от Лонгвуда, целый отряд войск для охраны острова. Любопытно, что и офицеры и солдаты гарнизона на острове обнаруживали к Наполеону, смертельному врагу Англии, не только почтение, но иногда какое-то сентиментальное чувство. Солдаты передавали ему букеты цветов, просили у наполеоновской свиты, как милости, чтобы им позволено было украдкой на него взглянуть. Офицеры, даже спустя много лет, выражали, говоря о пленнике, из-за которого им пришлось прожить несколько лет на пустынном острове, чувство симпатии.
Это наконец обратило на себя внимание комиссаров держав, живших для наблюдения за Наполеоном на острове: «Что более всего удивительно, — заявлял граф Бальмэн, представитель Александра I, — это влияние, которое этот человек, пленник, лишенный трона, окруженный стражей, оказывает на всех, кто к нему приближается... Французы трепещут при виде его и считают себя совершенно счастливыми, что служат ему... Англичане приближаются к нему только с благоговением. Даже те, которые его стерегут, ревностно ищут его взгляда, домогаются от него одного словечка. Никто не осмеливается держать себя с ним на равной ноге».
Маленький двор Наполеона, последовавший за ним на остров Св. Елены и поселившийся с ним в Лонгвуде, ссорился и интриговал точь-в-точь, как если бы все они были еще в Тюильрийском дворце в Париже. Лас-Каз, Гурго, Монтолон, Бертран обожали Наполеона, заявляли, что он для них бог, и ревновали друг к другу. Генерал Гурго даже раз вызвал на дуэль Монтолона, и только гневный окрик императора положил конец ссоре. Наполеон под разными предлогами даже отправил спустя три года Гурго в Европу, так он ему надоел своим обожанием и невозможным характером. Лишился он и Лас-Каза, которого Гудсон Лоу выжил с острова в 1818 г. Лас-Каз записывал беседы с Наполеоном, а многое Наполеон и просто диктовал ему, и из всей литературы воспоминаний, относящихся к острову Св. Елены, конечно, эти записи наиболее любопытный памятник. Когда Лас-Каз должен был уехать, у Наполеона уже не оказалось такого подходящего и такого образованного секретаря, и о последних годах жизни императора мы поэтому знаем гораздо меньше.
Не придирки Гудсона Лоу, досадные и мелочные, но все же не могущие оскорбить Наполеона сколько-нибудь серьезно, тем более что он вовсе и не пускал к себе губернатора, не климат острова, здоровый и ровный, не материальные условия жизни, бывшие ничуть не хуже, чем, например, у самого губернатора, порождали ту угрюмую тоску, которой Наполеон никогда не делился со своим маленьким двором, но которую они все очень хорошо замечали. По-видимому, его больше всего убивала праздность. Он очень много читал, катался верхом, ходил, диктовал Лас-Казу. Но перейти к такому существованию после привычки к неустанной работе, к 15-часовому, а иногда 18-часовому рабочему дню, к которому он привык за всю свою жизнь, было для него непереносимо.
Свое настроение он скрывал. Он старался быть разговорчивым и оживленным с окружающими, часто и сам, по-видимому, отвлекался этим от своей тоски. Переносил он свое положение стоически.
Уже во время долгого морского переезда на «Нортумберлэнде» он начал диктовать Лас-Казу свои воспоминания. Он продолжал это делать и на острове вплоть до отъезда Лас-Каза. Разговоры с Лас-Казом, разговоры с Монтолоном, с Гурго, продиктованные им и им просмотренные «Письма с Мыса», которые по его поручению (но без его подписи) напечатал потом Лас-Каз, — все эти источники дают понятие не об объективной исторической истинности фактов, о которых идет там речь, но о том, какое представление об этих фактах желал Наполеон внушить потомству.
Из всех записей разговоров с Наполеоном, из всех воспоминаний, заслуживающих сколько-нибудь доверия (т.е., точнее говоря, из воспоминаний Лас-Каза, Монтолона и Гурго, потому что Антомарки и О’Мира никакого доверия не заслуживают), можно извлечь очень много для истории так называемой «наполеоновской легенды», но очень мало ценных и убедительных материалов для характеристики самого Наполеона и для истории его владычества. «Наполеоновская легенда», сыгравшая впоследствии такую активную историческую роль, стала строиться задолго до Виктора Гюго и Гейне, до Гете и Цедлица, до Пушкина и Лермонтова, до Бальзака и Беранже, до Мицкевича и Товянского и до целого легиона поэтов, публицистов, политических деятелей и историков, мысль и чувство которых, а больше всего воображение, упорно обращались и надолго приковывались к этой гигантской фигуре, показавшейся Гегелю после Иены олицетворением «мирового духа», двигателем истории человечества. Создаваться легенда начала уже на острове Св. Елены.
Но в этой моей работе речь идет исключительно о Наполеоне, а вовсе не об истории «наполеоновской легенды».
Итак, материалы, порожденные пребыванием императора на острове Св. Елены, дают очень мало. «Бог» изрекал непогрешимые глаголы, а верующие записывали обожание, влюбленность, религиозное почитание — не такие чувства. которые способствуют критическому анализу. Говорил Наполеон с окружающими не для них, конечно, а для потомства, для истории. Мог ли он тогда быть очень твердо уверен, что его династии суждено еще раз царствовать во Франции, мы не знаем, но беседовал он с окружающими так, как если бы имел в виду этот будущий факт. Однажды он прямо высказал мысль, что его сын еще будет царствовать.
Полны специального интереса, конечно, все его обильные замечания (и диктанты), касающиеся его войн и военного искусства других знаменитых полководцев и военного дела вообще. В каждом слове чувствуется первоклассный мастер, знаток и любитель предмета. «Странное искусство — война; я сражался в 60 битвах и уверяю вас, что из них всех я не научился ничему, чего бы я не знал уже в своей первой битве», — сказал он однажды. Из полководцев он высоко ставил Тюренна, Конде. Наполеон считал себя, без сомнения, величайшим полководцем во всемирной истории, хотя не выразил этого ни разу точными словами. С особенной гордостью он говорил об Аустерлице, Бородине и Ваграме, а также о первой (итальянской, 1796–1797 гг.) своей кампании и о предпоследней (1814 г.). Разгром австрийской армии под Ваграмом он считал одним из лучших своих стратегических достижений. Если бы Тюренн или Конде были при Ваграме, то они тоже сразу увидели бы, в чем ключ позиции, как увидел это Наполеон, «а Цезарь или Ганнибал не увидели бы», — прибавлял император. «Если бы при мне для помощи в моих войнах находился Тюренн, я был бы властелином всего света», — утверждал он. Самой лучшей армией Наполеон называл ту армию, в которой каждый офицер знает, что делать при данных обстоятельствах. Однажды он выразил сожаление, что не был убит при Бородине или в Кремле. Иногда, говоря об этом, он называл не Бородино, а Дрезден, еще охотнее Ватерлоо; о «Ста днях» он вспоминал с гордостью и говорил о «народной любви» к нему, проявившейся и при высадке в бухте Жуан и после Ватерлоо.