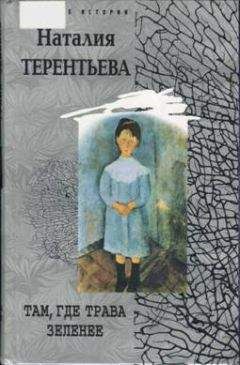Анастасия Строкина
— Я не знаю, что такое Гор-ба-чев, — сказал Волк, немного подумав. — Может, это что-то другое, а не Гор-ба-чев? Просто он буквы перепутал, может?
— Нет, — ответила я уверенно, — ты не видел Д. А.
Д. А. — это дед А.
Я никогда не помнила его имени, но точно знала, что оно начинается с этой буквы. Для большей краткости я придумала звать его Д. А. Кроме меня, и Волка, и еще Миши, об этом никто не знал.
— Ты не видел его. Он очень серьезный. Он только один раз вышел во двор в разных ботинках.
Но тут я вспомнила, что однажды Д. А. перепутал кое-что посущественней ботинок — времена года!
Это было в декабре. Мы с Мишей играли в «Кто дольше?» — по очереди на счет сидели на металлическом грибе — единственном и по-настоящему уродливом украшении нашего двора.
— Восемь, девять, — отсчитал Миша. И замер.
— Десять! — подсказала я ему. Но Миша молчал.
Я обернулась и увидела Д. А. в свете подъездного фонаря, белого, босого, в красной рубашке и длинной черной юбке его жены. Д. А. стоял, ничего не говорил, ничего не делал. Мы почему-то закричали, тогда он тоже закричал и кинулся в сторону леса, размахивая руками. Скорее всего, он думал, что взлетит.
— Может быть, он считает себя птицей? — спросил Миша.
— А если он и правда птица, то какая? — задумалась я.
— Он — дикая птица!
В тот день мы стояли и смотрели, как Д. А. бежит и бежит и как будто растворяется в северном сиянии.
— Это был долгий декабрь, — вдруг сказала я Волку. — Солнцеед опять пришел на небо, и стало темно. Да, было очень темно. И днем было даже темнее, чем ночью. Потому что днем должно быть светло. А когда знаешь это, то дневная ночь становится еще чернее.
— Зачем ты мне это говоришь? — спросил Волк.
— Потому что в тот декабрь Д. А. перепутал времена года. И стал птицей. А больше он почти ничего никогда не путал.
— Ну, раз он ничего не перепутал, значит, оно существует — самый настоящий Гор-ба-чев. Мне кажется, это означает что-то плохое. Спроси у папы.
Я понимала, что разговаривать про Д. А. со взрослыми не стоило, почему — неизвестно, но определенно нельзя. И совсем немыслимо было передавать его слова («Как?! Ты слушала, что он говорит? Кто тебе разрешил слушать?! Почему ты повторяешь эту ерунду?!»).
— А папы и вовсе нет дома.
— И где он? — Волк был очень любопытным. Он все хотел знать и на все имел свое волчье мнение.
— Он улетел на задание в самолете и скоро вернется. Ну как обычно. Летчики улетают и возвращаются.
— Это не всегда так.
— Лучше бы он водил поезда. Или пароходы, — сказала я. — Был учителем или певцом.
— Я в этом не уверен, — заявил Волк. — Твой папа видит такие чудеса, которые так просто не найти! Он летает в такие страны, где люди никогда не трогали снег. Где днем — всегда день и не бывает, чтобы днем была ночь, как здесь. Он плавает над облаками!
— Учитель тоже может полететь куда-нибудь.
— Ну-ну, — успокоил Волк. — Главное, что твой папа не Гор-ба-чев! Даже Д. А. трясется при его имени!
Д. А. вообще часто трясло, если не сказать все время. Тряслась его голова, а когда он ругался, то казалось, что она вот-вот отвалится и укатится с горки прямо в лес. Тряслись его руки, но были такими сильными, что, когда он заходил в подъезд, мы боялись остаться без двери — так неистово он хватался за ручку. Тряслось его тело, и, когда он кричал это страшное слово: Горрр (как крик вороны), Бааа (как камень в воду), Чеввв (как топором по дереву), не было сомнений, что вот-вот его руки-ноги оторвутся и полетят. И, скорее всего, там, в небе, станут чьими-то крыльями. Потому что в Д. А. жила скрытая крылатость. Волк говорил, что когда-то очень давно Д. А. был командиром экипажа и тоже летал в непонятные страны. И в этих странах он что только не делал: воевал, спасал, спасался, искал, выполнял секретные задания! А потом с ним что-то случилось, и он навсегда приземлился здесь, в нашем доме. В скучном четырехэтажном, сложенном из серых грустных плит доме, который смотрит во двор с металлическим грибом, а если поднимет глаза повыше, то увидит пригорок с карликовыми березами.
Из уст Д. А., кроме рычащего слова, которое заставляло его трястись сильнее обычного, вырывались и другие. «Пустите на спиртовоз! Что же вы делаете? На спиртовоз хотя бы пустите!» Он по несколько раз повторял одно и то же, но всегда с разной интонацией. Его фразы намертво вколачивались в голову, проникали в кожу, прорастали волосами. «АН-26 в Эфиопию! В Эфиопию!» То, о чем он говорил, было непостижимо как язык какой-то неведомой страны, из которой он однажды вернулся навсегда. Но и эти неразгаданные звукосочетания оставались в памяти, пускали корни. «Завтра на АН-12!» — звуки радости, надежды, движения. Через почти тридцать лет — «Завтра на АН-12!»
— А лето придет, летом будем щавель собирать! — неожиданно сказал Волк.
Он знал, что я люблю дикий щавель. Впрочем, мы вместе его любили. Потому что Волк был щавелеядным и грибоядным летом, а в остальное время он просто был Волком. И ничего не ел.
Первый раз мы встретились в 1988 году, в день за моим днем рождения — 28 августа. Я увидела его и спросила:
— Волк, что-то случилось. Все стали вдруг тихими, другими. Ты не знаешь, что случилось, Волк?
— Знаю, — ответил он. — Один летчик разбился. И больше не вернется сюда.
— Никогда?
— Сложно сказать. Кошки вот находят дорогу к дому, даже если заблудились далеко-далеко. А про умерших людей не слышал.
— Значит, он умер? — не унималась я. — И что это значит?
— Ничего особенного, — сказал Волк. — Просто вы его здесь больше не увидите.
— А кто-то не здесь увидит?
— Думаю, да.
Волк был очень умным. Он все понимал, обо всем догадывался. Я, конечно, тоже все знала, но он как будто знал первый.
— Ты быстро привыкла к самолетам? К этому шуму? — спросил Волк в нашу первую встречу.
— Я не знаю, как это — привыкнуть. Я тут родилась и еще не жила без них. Это, наверное, скучно, когда некого провожать и встречать. Самолеты существуют для того, чтобы их провожали и встречали.
Он бы очень хотел прийти ко мне домой — посмотреть на самолеты из окна.