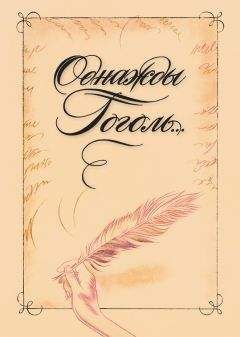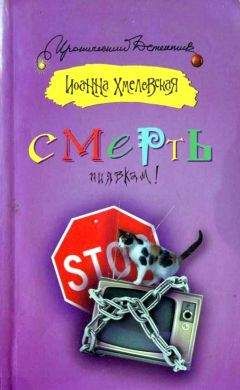Но это внутренние изменения, на которые мы больше не можем влиять. С какой стороны не пытайся разрешить проблемы нашего глубокого кризиса, в конечном счете приходишь все к той же центральной проблеме. Это проблема твердости веры. Основной вопрос в нашем кризисе, это вопрос о том, возможно ли достичь духовной и моральной опоры, на которую сможет опереться вся наша жизнь. Важная проблема еще в том, возможно ли повергнуть вспять исторический процесс секуляризации, длящийся уже пять столетий. Это явно невозможно. То, что нужно сделать для этой цели, выходящей за пределы чисто религиозной сферы, несколько больше чем ограничение политических и социальных требований. Это признание ограниченной сферы нашего человеческого космического порядка, который является предметом споров. Вероятно, можно сделать нечто большее, но в любом случае не следует. Деятельность человеческого общества должна определяться извне, а не в себе.
Мы нуждаемся в ewigungen,[45] или, как это окончательно выразил, Якоб Буркхардт — в обращении к высшим ценностям. Должно быть что-то, "что установлено как абсолют, раз и навсегда". Но Буркхардт не отвергает обращения к христианству как к "утопической реакции". Все, говорит он, способствует интерпретации христианства, как независимой силы. Христианство сейчас имеет смысл только как оппозиция властям и частному капиталу, оно "не согласуется с государством и миром". Тщетно пытаться "искусственно навязать христианство с целью сделать людей более доброжелательными".
Без сомнения, все обдуманные попытки, направленные на возрождение христианства, подчинены одному безжалостному закону: одной доброй воли и желания верить недостаточно. "Спланированная" христианская деятельность, такая, как нам кажется, необходима для возрождения Запада, наиболее абсурдна и разрушительна из всего того, что многие наши современники планируют. Она могла бы плохо кончиться на основании того факта, что все, находящееся само по себе вне веры, например, поддержание общественного порядка, восстановление нормального функционирования государства, этическая база, служащая опорой цивилизации, — не ведут к самой вере, а только к осознанию ее необходимости. "Люди часто попадают под власть воображения, — говорит Паскаль, — и веруют в изменения, покуда надеются на них". Осознание необходимости обращения в веру — не христианство.
Трудность рехристианизации объясняется не только отчуждением человека от всего, что трансцендентально, но и вечным парадоксом веры, заключающимся в недостаточности желания и доброй воли самих по себе. Менее всего желание верить, потому что это элемент порядка в светских делах.
Без того основного смысла, которым наделил Гоббс свое "смертное божество", с его соблазном посюстороннего, чисто земного человеческого порядка, его не назвали бы "зверем из Апокалипсиса". Он хорошо осознал "тщеславие" в религиозном смысле. Он знал, что устанавливает логическую противоположность христианскому порядку. Это был антихристианский порядок. Он также ясно представлял себе, что против этого порядка нужно сражаться, только полагаясь на христианский духовный порядок, что в своей собственной области этот порядок был неуязвимым, логичным и соблазнительным. Таким образом, если кто-нибудь позволит его богу появится возле себя, то он станет его жертвой, как уже раз опрометчивая душа стала его, заключив договор с дьяволом.
Если господство Левиафана можно преодолеть только силой религии, то сегодня он кажется непоколебимым и, вполне вероятно, день окончательного пришествия и правление Антихриста уже наступил. Как мог христианский порядок, слабый и колеблющийся в своей связи со светским миром найти силы, чтобы преодолеть антихриста, который оказался вне своей духовной сферы?
Возможно, в течение этих лет мы соприкоснулись с чем-то новым. Оно новое только для нас, на самом деле оно бесконечно старо. Мы познали реальность существования зла, метафизическое воздействие и силу зла. Левиафан — это дух зла. Он в евангельском смысле — Искуситель, который обещал все царства мира и их величие тому, кто падет ниц и будет служить ему. Он вышел из силы и, должно быть, из духа зла, который мы уже ощутили в истощении и агонии этих лет. Не из человеческого зла, обычных мелких подлостей, но из силы, которая в самом деле должна внушать восхищение, величественного зла, которое во все времена очаровывало намного сильнее, чем безгрешность великих поэтов. Левиафан — это демонический дух зла, воздействующий на интеллект и являющийся одной из сил, созданных творцом.
Из познания этого зла может открыться путь к познанию веры, в которой может быть преодолено зло.
Дух зла в наши дни нашел глубокое, символическое воплощение в антисемитизме. Но нам необходимо избавиться от соблазна отождествлять его только с Германией, ведь он распространился по всему миру. И в любой стране это некий эталон нигилистической революции.
Не стоит исследовать истоки антисемитизма, исходя только из политических и социальных причин. У него — метафизическая основа. "Война с евреями", по мнению великого немецкого историка Моммзена[46], — "недоразвитое чувство национализма"; этот феномен распространен повсеместно: еще вчера — в Польше, а сегодня — во Франции. И так — по всей планете, в каждой националистической группировке. Однако, это никак не означает, что этим и заканчивается национализм. Вовсе нет. Такой национализм древнее, чем любая из форм европейского национализма. Его не искоренить, рассматривая только как отжившую избыточную форму, поскольку он пустил корни гораздо более глубокие, чем мы думаем, в основу нашей западной цивилизации. От него так просто не отделаться, с презрением, словно это признак грубости и варварства. Чтобы преодолеть антисемитизм, необходимо осознать всю степень ужаса, когда пытаются соблазнить пороком. И несмотря на это, борьба с антисемитизмом — почва для духовного возрождения нашей цивилизации. Антисемитизм — центральная, а не побочная проблема, являющаяся частью всеобщего кризиса, один из его симптомов. Важность этой проблемы заключается в том, что антисемитизм — ключевой элемент нацистской доктрины.
Нацизм со своим дьявольским инстинктом, неспособностью контролировать эмоции, эффектом коллективного стада жаждет, чтобы в человеческое подсознание проникло зло в конкретном образе. Вот так его олицетворением стали евреи, что удовлетворило человеческую потребность в видимом образе зла. Евреи стали не только козлами отпущения, их обвинили в бедах и просчетах прошлого и настоящего. Такой имидж стал дешевым, легким и эффективным средством, породив множество толков. Почему же такой прием хорошо сработал, даже без видимой нужды воплощения в образе зла? Почему этот образ означал зло, когда не было особых условий, благоприятствовавших этому? Замена религии на просвещенный атеизм требует не только смертного божества, но и злого духа — и смертного, и земного.