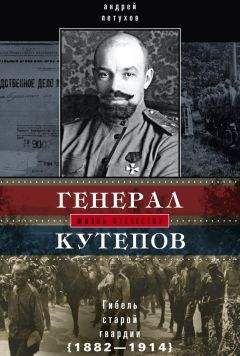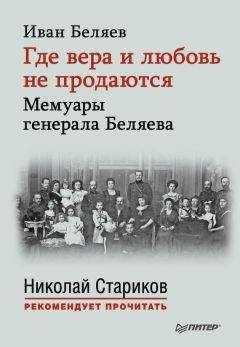Однако оба прибавили, что страна обнищала и что на крупное вознаграждение рассчитывать не приходится. Я стал готовиться к отъезду. В Аргентине на Парагвай смотрели пессимистически.
— Куда вы? В Парагвай? Охотиться на обезьянок? — спрашивал Изразцов. — Посмотрите, что мне пишет оттуда бывший артиллерист, полковник Щекин: «Сейчас русских здесь никого нет. Были один или два инженера проездом, ничего не нашли и уехали. А те молодые, которые гостили у вас, тотчас же после революции откочевали в Бразилию… Я перебиваюсь как corredor (посредник по мелкой торговле)».
— Но здесь мне нечего делать. Здесь я не вижу никаких перспектив для обездоленных русских, а там нам будут рады.
— Я вам найду квартирку в 4–5 комнат, вы там можете организовать прием приезжающих.
— Спасибо. Я уже получил вызов. Сперва поеду сам, а если возможно, тотчас вызову Александру Александровну.
Брат прислал мне на дорогу 100 фунтов, а Хизыр и Юсуф вернули долг за проезд. Я сердечно распрощался с моими аргентинскими друзьями и отправился на пароход, отходивший вверх по реке.
«Дозволено ль и мне сказать четыре слова»,
— собака тут свой голос подает…
Крылов.
Едва ли не с первого дня моего прибытия (8 марта 1924 г.) на меня обрушилась целая буря самых яростных нападений со всех сторон.
Не щадили меня ни левые («ПМ»), ни правые («Вера и верность»). Обвинения сыпались даже от бывших моих соратников — белых, в том, что я совращаю верных им чинов, и со стороны врагов русской национальности, проклинавших Парагвай. Ожесточеннее всех набрасывались устроенные мною здесь, наполнявшие газеты и воздух воплями и распространявшие по моему адресу самые противоречивые нелепости.
Причиной всему было мое искреннее обращение ко всем русским за границей, в котором, предвидя ожидающий их кровавый кошмар, я указывал путь к спасению в Новом Свете, единственной стране, которая желала русской эмиграции и выразила это в конкретной форме, разрешив мне выписать на казенные места русских в Парагвай.
Всю эту бурю я выносил со стоицизмом русского солдата, с самообладанием краснокожего у столба пыток и продолжал кормить, поить и устраивать тех самых людей, которые, едва став на ноги, спешили расплатиться со мною потоками грязи и струями самой ядовитой клеветы. Где бы я ни устроил своего, там уже мне не было доступа. Но так я поступал всегда, так поступаю и по сей день.
Были причины, побуждавшие меня к молчанию. Я не мог разоблачать тех, кого только что сам вывел в люди, ручаясь за их высокие качества, а ручался я за всякого, кто приходил ко мне с именем России на устах.
… Патриотизм. Это означало для меня, что я люблю свою родину, что я не должен мириться ни с чем, пока не увижу ее возрождения. Среди стаи орлов и я почувствовал себя орлом. Как никогда мне стало ясно, что и здесь я должен сделать все, чтобы сохранить искру живого пламени русского патриотизма до того момента, когда исполнится полнота времен и за тяжелым наказанием наше Отечество засияет вновь славой возрождения.
С первых же дней я послал в издававшееся в Белграде «Новое время» горячий призыв ко всем, кто исстрадался душой за себя и своих на чужбине и мечтает вновь начать жить в стране, где он может оставаться русским, где он может найти себе существование, создать прочный очаг, сохранить детей от гибели и растления. В этих условиях, где ни истрепанная одежда, ни измученное лицо не лишают права на общее уважение, где люди знают на опыте, что Феникс возрождается из пепла, где еще никто не умер с голоду, они могли бы сохранить своих ларов и пенатов. На мой зов отозвались тысячи… Слезы сыпались градом, когда читал их письма… Но…
Страна, только что вышедшая из двухлетней распри, была обессилена. Общий уклад жизни напоминал Россию до 1900 года. Та же патриархальность, радушие к иностранцам, жизнь без претензий на европейские достижения, но полная своеобразных прелестей и вполне сочная; достаточно сказать, что все необходимое — мясо, хлеб, молоко — стоило 5 песо, при стоимости трамвайного билета — 7–8, газеты — 2 песо. На вымощенных камнем улицах стояло всего три такси, прочие обслуживали президента и военного министра, но город утопал в садах, базар был завален фруктами, маниокой и пататой, на всех улицах сияли улыбки, и на главной улице Пальмас безногие нищие играли в орел и решку.
Я прибыл 8 марта, получил приглашение читать фортификацию в Военной школе и французские уроки в коллегии до проведения сметы; в общем, это давало около 1000 песо в месяц, после 100 аргентинских в Буэнос-Айресе. На 1-й лекции присутствовал военный министр и все офицеры. Генерал Скенони еще недавно вспоминал, что они были поражены владением мною языком и интересом, который охватил кадет с первого же моего появления и сопровождал мои лекции до конца.
Лучше всех проходили экзамены по фортификации, и все отметки были выше хороших, даже тогда, когда я уже отсутствовал на экзаменах.
29 июня в 12 часов ночи меня вызвали к военному министру, который сообщил мне: «По Вашему желанию Правительство предлагает Вам выписать сюда специалистов согласно приложенным спискам на жалованье от содержания депутата до сенатора (2500–5000 в месяц). Вы должны гарантировать диплом и неучастие каждого в Красной Армии. Вы не консул и не посланник, мы не можем заключать контракты, но Правительство гарантирует своим словом, что все Ваши кандидаты будут пользоваться полными правами парагвайских подданных в смысле обеспечения. По Вашей мысли эти люди могут служить Вам базой для массовой эмиграции колонистов».
С октября мне было назначено 5000 в месяц и по желанию Д.М.Гондры выдано единовременное пособие 20000 в компенсацию за девять месяцев, проведенных на ничтожной оплате. Я получил ряд поручений на экспедицию по исследованию Чако, где должен был подготовить все в предвидении столкновения с Боливией. На огромной пустой карте пространства в пол-Франции красовалась надпись (на южной части) «Мисисипес Евангеликас» (на деле было всего две миссионерские станции). На немецких картах весь север был покрыт словами «бенглих унерфоршт».
Но в то время, как неудержимый порыв влек меня в очаровательные пустыни, к тем самым индейцам, которых я уже знал с детства, прочитав все о них, что мы достали, вплоть до библиотеки Императорского географического общества и Академии наук и которых я сумел воплотить в своей душе именно такими, какими я их нашел, моя жизнь двоилась под влиянием другой великой задачи: найти уголок, где бы все святое, что создавала вечная святая Русь могло сохраняться, как в Ковчеге во время потопа до лучших времен.