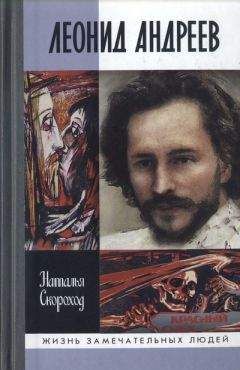Немногие тогда могли разделить его мнение, да и он сам доверил свои сомнения исключительно дневнику. Формально демократия расцветала: Временное правительство назначило выборы Учредительного собрания на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, и оно-то, это высокое собрание должно было определить дальнейшее устройство власти и государственности в России. Фактически — джинн был выпущен из бутылки: начался развал армии, «повалился» фронт, оказавшиеся на воле уголовные преступники вместе с «революционными массами» грабили арсеналы. И очень скоро Петроград оказался во власти уголовной стихии: налеты на магазины и квартиры, уличные грабежи. Стране требовались не долгосрочные, а срочные — оперативные — меры. Именно поэтому Андреев уже в первые дни свободы ощущает тревогу: «…в Думе, где заседают два этих правительства — хаос и бестолковщина… Все с теориями. Сверхумных много, а просто умных не видно и не слышно»[536].
Начало «свободной эры» было омрачено для него еще одним чудовищным фактом: в начале марта «город завыл от неимения газет». Уже 24 февраля по призыву профсоюза печатников «не выпускать буржуазных газет, пока не укрепится рабочая пресса»[537] забастовали рабочие типографии «Русской воли», потребовалось десять весьма нервных дней для разрешения проблемы: газета выходит вновь лишь с 5 марта. И все же эти темные пятна, внезапно проявившиеся на светлом облике долгожданной революции, едва ли поначалу существенно искажали для Андреева ее истинный смысл. Да и сам он не хотел верить собственным пророчествам. В первом же мартовском выпуске «Русской воли» мы читаем «официальный», а впрочем, вполне искренний отклик Андреева-публициста на февральские события: «В настоящую минуту, когда в таинственных радиолучах ко всему миру несется потрясающая весть о воскресении России из лика мертвых народов, — мы, первые и счастливейшие граждане свободной России, мы должны благоговейно склонить колени перед теми, кто боролся, страдал и умирал за нашу свободу»[538]. Редакционная статья «Памяти погибших за свободу», как ни странно, была обращена отнюдь не в будущее, а в прошлое. Там, в прошлом, где «кронштадтские и свеаборгские матросы», «хамовнические террористы», все эти — так хорошо знакомые Андрееву Вернеры, Муси, Терновские и даже Саввы — подтачивали «романовский кровавый трон» — там все было ясно, тихо, торжественно и светло. Наконец-то были оправданы многочисленные жертвы и воплощенная народническая мечта о падении самодержавия, о торжестве равенства и справедливости грела душу, волновала и радовала сердце писателя.
В те мартовские дни в гостиной, выходящей окнами на Марсово поле, где 23 марта торжественно хоронили жертв революции, Шаляпин под аккомпанемент Анны Ильиничны пел «Дрожите, тираны, их слуги…» и «Вы жертвою пали в борьбе роковой», и ему — со слезами на глазах — внимали уже немолодые, дождавшиеся в конце концов торжества свободы гости Андреевых — несчастное поколение рожденных в 1860-х — 1880-х: с детства — впитавших тоску о свободе, в молодости — утвердившихся в своей вере в свободу и шедших ради нее на многочисленные жертвы, и в зрелости, увы, доживших до ее осуществления и сполна вкусивших ее горьких плодов.
Нам трудно теперь конечно же представить, каким виделось будущее России русскому интеллигенту в марте 1917-го и какие бури бушевали в те дни и недели в душах этого поколения. Родные Андреева утверждали, что состояние возбуждения — «как при пожаре» сменялось у писателя чувством глубокой растерянности. Однако наступающая весна и лето исключали растерянность, требовалась немедленная реакция на происходившие перемены, факты, как будто взаимоисключающие друг друга, нуждались не только в быстром осмыслении, но и в публичной оценке. Я уверена, что тайная мысль занять пустующее место «совести нации» все еще жгла Леонида Николаевича, смена политического строя, совпавшая с рождением «Русской воли», казалось бы, могла «подыграть» тайным амбициям писателя.
Несомненно, весной и летом 1917 года наш герой стремится к публичности и «вектор» его активности направлен на «социальное»: Андреев как будто забывает, что он — писатель, используя славу беллетриста лишь для утверждения себя в роли общественного, а возможно — и политического деятеля. 1 марта, «когда еще стреляли, но уже весь город был черен от революционной, возбужденной толпы»[539], он едет в Государственную думу, чтобы прояснить перед депутатами позицию газеты по вопросу «германской войны», отделить собственные призывы к «войне до победного конца» от взглядов монархистов. Демонстранты, заглядывая в разбитые окна застрявшего среди уличной толпы автомобиля, узнавали Леонида Андреева и кричали ему «ура!».
В апреле 1917-го Андреев одерживает победу над своим главным «редакционным» врагом — Амфитеатровым, стараниями которого газета то и дело «заваливалась» в разряд «уличной прессы», и с этих пор — уже единолично определяет «направление» «Русской воли», желая сделать из нее «серьезный и влиятельный» печатный орган. Осенью от лица российских редакторов Леонид Николаевич войдет во Временный совет Российской республики, так называемый «предпарламент», призванный генерировать идеи для создания будущей конституции. Формально не примкнув ни к одной из политических партий, Андреев, я уверена, видел себя среди будущей политической элиты буржуазной России, возможно, рассчитывал он и на один из министерских портфелей… Чем черт не шутит, стал же министром юстиции в третьем составе Временного правительства друг его юности — «милый Малянтович». Итак, когда-то быстро уставший от бурных дней первой русской революции — ныне Леонид Николаевич даже не помышляет о бегстве, оставаясь — вплоть до самого октябрьского переворота — как сам он пишет летом Филиппу Доброву — «действительным членом петроградского сумасшедшего дома».
Как глава «Русской воли» наш герой стремится откликаться на все значимые политические события, комментировать все действия правительства, будь то оценка «стихии первомайских демонстраций», внезапно охватившей страну, или ода закону об «отмене смертной казни в России», или же «плач» по «летнему отступлению русских войск». Как когда-то своей опытной рукой вел он по узкому, опасному, чреватому подводными валунами фарватеру свой катер «Далекий» на финские шхеры, так и теперь — он пытается проложить путь газеты среди многочисленных: левых, правых, стойких, умеренных, несгибаемых и революционных лозунгов и программ. Однако всегда страстная публицистическая мысль Андреева явно буксует, когда дело касается политической оценки происходящего, и как только речь заходит о «своеобразии текущего момента», события за окном частенько ставят нашего героя в тупик. Порой ему кажется, что установленный в петербургской квартире телефон связывает его «с разными отделениями сумасшедшего дома» и он слушает по ночам «рыдания, бред, стоны и хохот».