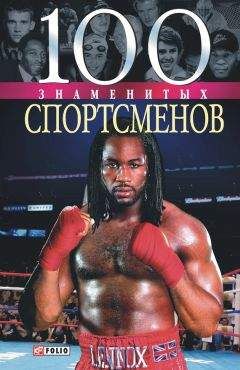"В библиотеках лучше", - думал, не слишком заглядываясь на студенток.
Защита диссертации шла в большой, почти пустой аудитории: Курчев насчитал восемнадцать человек, включая членов комиссии. К концу защиты в зале вряд ли осталась половина.
Ученый секретарь - молодая девчонка со стертым лицом и взбитыми крашеными кудельками - звучным голосом прочла анкету соискательницы. Семнадцатого года рождения, член партии с 1947 года. Дальше шел перечень мест работы. Нигде соискательница не задерживалась больше двух лет.
Затем вышла она сама. Хотя ей было всего тридцать семь лет, выглядела она на полсотни. Рот сверкал золотыми зубами, а тело просто-таки рвалось наружу из черной юбки и белой импортной кофточки. Шла она к кафедре не с большей охотой, чем камчадал к доске, а на кафедре стала тянуть кота за хвост. Слова еле выталкивались из ее широкого и дряблого рта. Слово "ну" она употребляла чаще всех других слов и фамилий.
"Господи, - думал Курчев. - Да будь я завучем, я бы ее в девятом классе на второй год засадил. А тут - она защитится и, глядишь, еще помрет академиком".
- Было проведено обследование двадцати шести предприятий ткацкой промышленности и выведено заключение, что рост производительности труда зависит... - тут диссертантка поплелась к развешанным на коричневых досках таблицам и стала тыкать в них указкой.
"Да это туфта, - думал Курчев. - Она умножает часовую выработку на восемь, потом на двадцать пять, потом на одиннадцать с половиной, так у нее получается годовая, а потом все делит в обратном порядке и опять получается среднечасовая".
"Не злись, ты ведь в этом ничего не понимаешь", - тут же оборвал себя, потому что диссертантка действительно перешла к малопонятным выкладкам, набитым индексами. Но общие ее выводы были по-прежнему бессмысленны. Увеличение числа работающих не вело к увеличению производительности труда. В то же время сокращение числа работающих также не увеличивало производительность.
Никто из сидевших в зале не слушал. Несколько женщин переписывали что-то из подшитых папок в толстые клеенчатые тетради. Трое очкастых членов комиссии довольно громко переговаривались и даже посмеивались, но, видимо, не над соискательницей, а над чем-то своим, не имеющим никакого отношения к защите. Или они ничего не понимали в теме, или тема их не интересовала, но они даже не пытались убедить диссертантку в обратном, а она, нещадно путаясь в цифрах, отчаявшись перебороть их смешки, продолжала тянуть свои нудные, ничего не объясняющие объяснения.
Следом за ней выползла на кафедру ее научная руководительница, седая раскоряченная калека с лицом и голосом школьной учительницы. В диссертации она тоже не слишком разобралась и упирала не на научное значение, а на практическое ее применение и на обширность материала. Затем довольно долго пересказывала содержание каждой из трех глав, то есть повторяла диссертантку, но делала это куда бойче, не путалась в цифрах (она вообще их не приводила) и не "нукала".
Выступившие следом двое оппонентов сказали, что в общем работа соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, и привели, не слишком напирая на них, с десяток огрехов, которые (оппоненты специально это оговаривали!) ни в коем случае и нисколько не снижают ценности данной работы.
Затем был объявлен перерыв и, проголодавшись, Курчев спустился в подвал, в студенческую столовую.
Кормили тут неважно, хотя он нарочно заказал самые дорогие блюда.
"Нет, с аспирантурой всё, - решил твердо. - Позор и дерьмо, хотя пройдет единогласно".
Он взял еще бутылку пива, выпил безо всякой охоты и, забрав в раздевалке пальто, поехал домой.
Марьяна ждала его в кухне, куда ее впустила Степанида.
3
Сеничкин жил у Инги вторую неделю и они еще ни разу не поссорились. Но и он и она чувствовали, что как раз из-за отсутствия размолвок между ними растет какой-то забор невысказанных обид и с каждым днем все труднее через него переговариваться. Поэтому, встречаясь вечером в Иностранке, они спешили в кафе и оттуда домой в постель.
На широком родительском диване им было хорошо, особенно если сразу после близости удавалось уснуть. Теперь, на второй неделе этого странного полубрака, Инга уже не желала ребенка. Теперь она думала о диссертации и о неминуемом возвращении родителей. Работа, вернее вторая ее глава, как-то неожиданно сдвинулась с места, потому что Инга начала писать не о суете и тщеславии героев, а об их разъединенности и глухоте, о некоммуникабельности, как любил говорить ее первый муж Крапивников. Роман Теккерея был достаточно великим романом, чтобы отвечать и такому взгляду, и Инга, упиваясь своей незадавшейся любовью, писала главу почти как дневник.
"А что? Так и надо, - успокаивала себя. - Без личной причастности ничего не выйдет. Холодных исследователей и без меня хватает".
С печальным удивлением она перечитывала написанные торопливым почерком страницы и каждый раз жалела, что не может их показать чудаку-лейтенанту. И еще ей было жаль, что его письмо о "Ярмарке тщеславия" осталось почти нерасшифрованным. Первые дни было не до письма, а потом не до лейтенанта. Теперь, будь у лейтенанта телефон, она бы ему, возможно, и позвонила, а так вот вдруг после всего прийти с просьбой прочесть эти двадцать с лишним страниц, посвященных человеческой разъединенности, было бы подлостью. И обещания написать Курчеву она не выполнила, потому что глупо переписываться с человеком, живущим за шесть кварталов.
Но диссертация занимала только часть души. Оставшееся место прочно оккупировал страх перед приближающимся приездом родителей. В субботу утром пришла телеграмма: "Беспокоимся молчанием звонили многократно", и Инга, встретив доставщицу на лестнице, не особенно раздумывая, по дороге отправила ответную депешу: "Телефон выключали ошибке будто неуплату целую Инга". Но уже через четверть часа, спускаясь по эскалатору, она глубоко раскаивалась в посланной телеграмме и, вместо того, чтобы ехать по радиальной линии до Дзержинской, села на кольцевую до Курской и, выскочив на поверхность, купила в предварительной кассе билет на понедельник.
- Я взяла на послезавтра, - сказала она вечером Сеничкину. Понимаешь, нельзя приехать к ним день в день...
Они и раньше говорили об Ингином отъезде, но как-то неопределенно. И, хотя новость была для доцента неожиданной, он тут же смирился, решив: "Что ж, так, наверно, лучше: нельзя жить под дамокловым мечом. Пусть приедут, тогда разберемся..."
- Когда поезд? - спросил поспешно, потому что ему показалось, что он слишком долго оформлял про себя это решение.
- В час с минутами.
- Жалко, не успею, - виновато улыбнулся. - Как раз лекция.