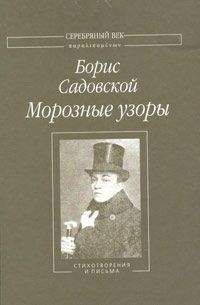«В Якутии я был не раз, а у вас никогда», — объяснил он.
Приезд его совпал с областным семинаром молодых литераторов, который открывался буквально завтра, поэтому все внимание немногочисленной писательской организации было сосредоточено именно на этом, а также на официальных, так сказать, гостях семинара, тоже из Москвы.
Но не только поэтому, наверное. Шел 1975 год. Глазков, хорошо известный в литературных кругах центра, был почти не знаком широкой публике, мало писала о нем (или не писала вообще) критика…
К счастью, редакционная машина, которая имела свойство в свободное от поездок редактора время ремонтироваться, была на ходу, материалы в газету сданы, и мы с Глазковым поехали в бухту Гертнера, очень красивую, в летнее время особенно.
Тут, на берегу, Николай Иванович сразу взбодрился, оживился, как бы помолодел.
— Прекрасное место, — сказал он. — Сюда можно приезжать всегда.
Был весьма редкий для Магадана солнечный, теплый день, над зеркальными водами бухты вздымались утесы зеленых гор…
— Я думаю, надо искупнуться, Слава, — с каким-то озорным возбуждением сказал Глазков.
— Водичка прохладная, Николай Иванович, — предостерег я.
— Это ничего, я еще не купался в Охотском море, — нетерпеливо сказал он и тут же начал раздеваться.
Я еще не знал об этой глазковской привычке — принимать «купель» везде, где он бывает. Об этом говорили, как о причуде, но для Глазкова, очевидно, купание было своеобразным «крещением», и только пройдя через него, он мог чувствовать себя по-настоящему приобщенным к новой земле. Это была мудрая причуда!..
Через пару минут Николай Иванович стоял по пояс в воде, с удовольствием плескаясь в ней. Я тоже полез за компанию, хотя купаться не хотелось, — вода и вправду была холодная, градусов тринадцать!..
— Вода хорошая, теплая, — с упрямым удовлетворением констатировал Глазков, когда мы вышли на берег.
И вечером, в гостиничном номере, куда мы пришли с поэтом Виктором Николенко, Николай Иванович с удовольствием вспоминал о своем купании в бухте Гертнера…
Назавтра мы встретились на поэтической секции семинара, куда пригласили Глазкова в качестве, так сказать, почетного гостя.
Николай Иванович внимательно слушал, как, волнуясь, читают стихи молодые авторы, но в обсуждениях почти не участвовал. Когда проходили дебаты, на лице его было уже знакомое выражение рассеянности, казалось, он слушает вполуха…
Но когда заспорили о стихах одного молодого поэта, которые подверглись критике со стороны некоторых профессионалов, Глазков неожиданно поднялся.
— Вы хотите издаваться или печататься? — спросил он у автора.
Молодой поэт, не сразу сообразивший с непривычки, в чем разница, ответил спустя мгновенье:
— …Печататься.
Тогда Глазков сказал, уже обращаясь ко всем:
— Издавать, быть может, рано, а печатать стихи надо.
Это было сказано столь определенно и категорично, что в наступившей почтительной тишине стало ясно, что это — оценка, высказанная в непрямой форме и в то же время затрагивающая самое главное.
Глазков вообще — как я потом убедился — не любил говорильню, и сам всегда был краток:
Многоречивость не похвальна,
И, очевидно, потому
Обратно пропорциональны
Минуты болтовни
Уму!
Эти строки я прочитал в подаренной им в те дни, только что изданной книге «Незнамые реки».
Я не знал тогда еще, как труден был литературный путь Глазкова, хотя чувствовал, откуда это резкое: «надо печатать!», так взбодрившее молодого автора… Николай Иванович хорошо знал цену слову поддержки, сказанному вовремя…
После окончания семинара все отправились на обед, заказанный по такому случаю в ресторане.
Упоминаю о нем потому, что во время этой торжественной трапезы, венчавшей исход мероприятия, разгорелся неожиданно горячий спор между Глазковым и прозаиком N.
N рассказывал, что на Колыме, помимо существующей уже ГЭС, будет построен целый каскад электростанций.
— Этому не радоваться надо, а огорчаться, — сказал Глазков.
— Ну почему же, — добродушно улыбнулся N.
— Потому что эти ГЭС испортили все реки!..
N принялся говорить, что это, мол, неизбежная необходимость, а кроме того, не так уж все страшно…
При этих словах Николай Иванович по-настоящему рассердился. Он бросил вилку и с гневом стал перечислять — начиная с Волги — реки, которые стали заболачиваться, в которых исчезает рыба, по руслу которых меняется климат…
Всякое новое возражение N подстегивало Николая Ивановича.
Их уже принялись «разнимать», с другого конца стола обеспокоенно смотрели официальные руководители семинара, однако Глазков никого не слышал в своей страстности и не успокоился до тех пор, пока не выговорил все, что считал необходимым.
— Вы только сегодняшнюю выгоду видите, а о стране ни черта не думаете! — в сердцах закончил он.
— Правильно Николай Иванович говорит! — донесся голос Виктора Кузнецова, молодого прозаика. — Я работал на Колыме, видел, какая вода мутная, желтая!..
Глазкова поддержали многие, можно было сказать, что он выиграл спор!..
К чести прозаика N, он изменил со временем свои взгляды на эту проблему, так как заблуждался, подобно многим из нас, не имея достоверной информации о последствиях гидростроительства.
В тот же день в центральном Доме культуры Магадана состоялся большой литературный вечер. Читал на нем стихи и Николай Глазков. Увидев, что в задних рядах сидят моряки, он прочитал стихотворение «ТОФ» (Тихоокеанский флот).
У Николая Ивановича вновь было рассеянное, отрешенное выражение лица, читал он размеренно, не нажимая на звук и интонацию, однако это было лучше артистического чтения, которое выхолащивает зачастую многозначность стихов, обедняет их некоей громогласной однобокостью.
Назавтра Глазков уехал в один из районов области, побывал там на приисках…
Н. Глазков и якутский писатель Н. Габышев на полюсе холода в Верхоянске. Начало 70-х годов
По возвращении его в Магадан мы виделись с ним каждый день. Глазков вообще больше общался с молодыми литераторами. Потому, наверное, что он органически не вписывался в какую-либо официальную обстановку, и потому, что был начисто лишен профессионального тщеславия, а также нетерпим к любого рода фальши.
— Странный он товарищ, — сказал один из местных поэтов. — Шнурки на туфлях болтаются… В оригинала играет?
— При чем здесь шнурки? — возразили ему. — Он такой, какой он есть.