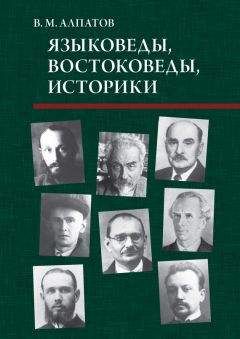Ознакомительная версия.
Ходил он и в театр, кино, одно время в Дом ученых, однажды даже выступил в «Правде» как кинорецензент по фильму о гражданской войне на Дону по мотивам Шолохова. Но в основном это относилось к периоду до начала 70-х гг. В последние годы жизни отец, чувствуя, что силы уходят, стал ограничивать себя во всем, кроме работы за письменным столом, особенно после второго инфаркта за два с половиной года до смерти (первый инфаркт в 1960 г. мало изменил его привычки). После этого он не ходил в институт и работал только дома. Отрадой был лишь пушистый кот Ферапонт, которого он даже изобразил в романе (точнее, два кота: после смерти первого скоро появился второй, в точности такой же внешности). Обычно кот сидел на столе и следил за работой. Отвлечением был еще телевизор, а летом в последние годы отец ездил в академический санаторий «Узкое» на территории Москвы, куда он попадал в качестве мужа члена-корреспондента.
Но жизнь не всегда давала возможность сосредоточиться на одной науке. В институте и вокруг него шла борьба партий, в которой мои родители, безусловно, входили в партию официальную («черносотенную», как ее именовали самые непримиримые из противников). Отца, видевшего своими глазами всю советскую историю, в том числе и немало плохого, толкала в эту партию вся его биография, начиная с того дня, как он видел, как белые стреляли по своим. Не все в его взглядах сходилось в цельную картину, особенно в отношении коллективизации.
Двойственной была его позиция и по разоблачению «культа личности». Сталина он не раз при мне оценивал очень резко, и все-таки время Сталина для него было частью его жизни, его биографии, и он не мог признать его потраченным зря. Мои родители в середине 50-х гг. однозначно положительно восприняли прижизненную и посмертную реабилитацию. Отец сам участвовал в реабилитации своего ученика по Романовской, вернувшегося «оттуда», сочувствовал другим возвратившимся и старался им помочь. Когда ему при мне сказали, что один из его сокурсников по МИФЛИ писал доносы, он прореагировал так: «Нет больше у меня такого друга», и с тех пор я дома эту фамилию не слышал. И в то же время отец, мать и часть их друзей резко отрицательно отнеслись к «секретному» докладу Н. С. Хрущева на ХХ съезде: «Выставил нас на посмешище перед всем миром», – говорил он. В обнародованных Хрущевым фактах для отца не было особенно ничего нового, а в «измену» своих арестованных друзей он и раньше не верил, но складывавшаяся из доклада картина целого периода его жизни была для него непереносима. Он почувствовал, что теперь СССР уже никогда не будет образцом мироустройства для других стран, как раньше (в чем не ошибся, и последующие события в Венгрии и других странах это подтвердили). С тех пор он активно не любил Хрущева, постоянно замечал у него некультурность и необдуманность решений (хотя, конечно, справку о Токвиле для него добросовестно написал), очень радовался его падению и написал даже памфлет.
Потом отцу нравился А. Н. Косыгин (умерший с ним в одну ночь), к Л. И. Брежневу он относился сначала нейтрально, потом все более раздражался из-за его немочи и особенно из-за подхалимажа вокруг него. Внутри его шел процесс осмысления происходящего, его реакцию не всегда можно было предугадать. Вот два примера. В 1976 г. я женился, и мы с женой снимали квартиру, но прописаны были с моими родителями на 2 Песчаной улице, где наша семья жила с 1952 г., там же оставался и мой паспорт. В день очередных выборов мне очень не хотелось ехать на другой конец города ради голосования, и я по телефону попросил отца взять мой паспорт и проголосовать за меня. И вдруг он закричал в трубку: «Какой же ты коммунист к ядрене-фене? Сейчас же приезжай!» (я уже был членом партии). Пришлось ехать. Но незадолго до его смерти исполнилось 50 лет его пребывания в партии, я помнил эту дату и заехал на последнюю квартиру родителей (в 1979 г. они переехали на Ленинский проспект, а квартиру на 2 Песчаной оставили нам). Я поздравил отца, но он вдруг прореагировал очень сухо, я почувствовал, что этот юбилей ему совсем не был приятен. Почему?
Идейная борьба среди советской интеллигенции, в том числе среди историков, после короткого всплеска в 1956–1957 гг. утихла до конца эпохи Хрущева, но с середины 60-х гг. резко усилилась. Начались дело Синявского и Даниэля, потом подписная кампания, позиции сторон резко поляризовались. Отец старался на все это смотреть с исторической точки зрения. В истории с Синявским и Даниэлем он увидел, прежде всего, возрождение спора славянофилов и западников. Ему долго казалось, что после революции этот спор уже решен жизнью и почвы не имеет, и вдруг появились новые западники, зачем-то апеллирующие к Западу при обсуждении российских вопросов! Он написал целый текст и послал его Д. С. Лихачеву, которого знал через жену и мнения которого ценил высоко. Дмитрий Сергеевич ответил (письмо сохранилось), что никакие это не западники и не писатели, и на такие незначительные фигуры не стоит обращать внимания.
Но конфликты шли уже в институте, где на некоторое время сверхлиберальную позицию занял партком во главе с В. И. Даниловым, в котором активную роль играли А. М. Некрич и М. Я. Гефтер (потом первый был исключен из партии, а затем эмигрировал, а второй вышел из партии сам). Партком начал вести борьбу против якобы намечавшейся реабилитации Сталина (которой в итоге так и не произошло). Михаил Антонович, очень не любивший склоки, был вынужден вмешаться, естественно, не на стороне парткома, который в итоге был раскассирован и сменен другим. Впрочем, это, пожалуй, был последний эпизод подобного рода для отца, в 70-е гг. он старался держаться подальше от конфликтов, щадя силы и время. Но симпатии его, разумеется, были не на стороне того лагеря, который позже стал именоваться демократическим и который он охарактеризовал донским словом кубло, что значит ‘гнездо гадюк’. Когда кто-то из «кубла» уезжал за рубеж, отец радовался: одной проблемой меньше.
В институте к нему относились в целом хорошо, даже часть «кубла», тепло о нем вспоминали и после смерти, а дожившие до наших дней сослуживцы вспоминают и сейчас. В нем ценили доброжелательность, стремление помочь людям (иногда в ущерб себе: в 1949 г. уволенный за «пятый пункт» историк попросил у отца взаймы крупную сумму денег, тот дал и до конца жизни долг не получил, хотя историк давно был восстановлен на работе). Его шутки и остроты передавались по институту. В 2003 г. столетие со дня рождения М. А. Алпатова отмечали в его институте (пригласили и нас с ныне покойным братом). Вел заседание директор института А. Н. Сахаров. При жизни Михаила Антоновича у них были хорошие отношения, потом взгляды Сахарова сильно изменились, но память о покойном он сохранил.
Ознакомительная версия.