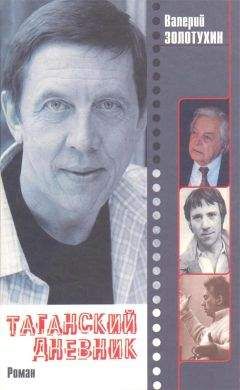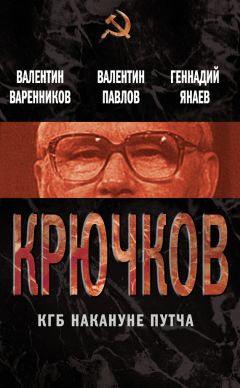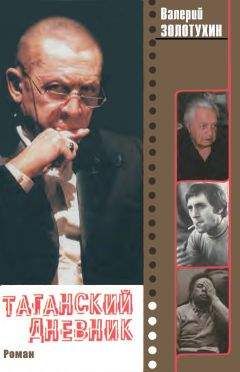Понедельник.
Что я наделал, что я наделал этим своим заявлением на пресс-конференции, я нарушил душевное равновесие и теперь все время оправдываюсь перед собой, ищу защиты и сочувствия у других, а Иван с Мартиной шутят зло: «Ты балансируешь… Продав честность однажды, ты продаешь честность на всю жизнь…»
— Вы беспринципные, трусливые люди, вы шепчетесь по углам, думаете и говорите то же самое, но вслух сказать у вас ни смелости, ни чести не хватает!!
Зачем я ввязался в эту дискуссию, все время в Париже занято этими спорами с собой и с другими, не вижу, не слышу Парижа и боюсь приезда Любимова, боюсь позорного диалога и скандала — стыдно, надо вообще быть выше этого.
В отношении Любимова у меня убеждения скорее патриотические, а не политические — мне жаль, что он работает не на русский театр, а на какой попадется, подвернется.
Два автобуса везут людей на экскурсию по Парижу. А мы с Иваном ждем Н. Тарнопольскую, пойдем с ней по магазинам.
Монмартр произвел на меня грустное впечатление, много собачьего дерьма и жуликов, а не художников.
Ну ладно, ладно. Надо написать моей миленькой Тамаре письмо.
Сложил уж было сумку, к выходу собрался, но снова достал дневник, авось еще несколько успокаивающих мыслей в голову придет. Господи! Спаси и помилуй меня, грешного! Спаси и помилуй в Москве там Тамару мою, и Сережу, и Дениса. Господи, не оставь нас, пусть все будут здоровы и живы. Отгони прочь от ума, выгони из души всю суету о Любимове и судьбах театра, определи скорее к своим заботам, писать надо, надо писать.
Заболоцкий свидетельствует, что они сидели с Шукшиным на просмотре «Бумбараша» в Доме Кино, и, когда я говорил, Василий М. сказал: — Алтайский дурачок!
Это надо проверить. Говорил я о том, что лежит «Интервенция» и о том, что вот лежал «Рублев», вышел, и никакой революции не произошло… о том, кто распоряжается судьбами худ. кино, почему решают люди, не имеющие к этому никакого отношения… о том, что «Бумбараш» по приемам и стилистике во многом повторяет эстетику «Интервенции» и пр. После этого на следующий день позвонили Дупаку, и он сказал, что мне завернули звание и запретили сниматься. Об этом мне потом сказал и Сахаров Алексей, именно за слова в Доме Кино. Очень перепугался Рашеев и жалел, что выпустил меня к микрофону, сокрушался, что «Бумбараш» не поедет на какой-то фестиваль, что у него будут неприятности и пр., а Вася Шукшин сказал про меня — дурачок алтайский. Очень хочется понять, что он имел в виду — жалел меня за смелость или осуждал за глупость.
Я это выступление очень хорошо помню.
Таганка успех имеет не любимовским спектаклем, более того, ненавидимым им спектаклем, предметом раздора между Эфросом и Любимовым.
Эфроса мне ужасно жаль — и присутствие рядом на конференции Наташи и Ольги, может быть, психологически и разъярило меня против Любимова, захотелось сказать в его адрес что-то резкое, чтоб он услышал и понял, что играет на судьбах других безжалостно.
10 февраля 1987
Вторник. Утро.
Второй раз был на завтраке. Погода стоит, что называется, великолепная. День вчера опять прошел бездарно, впрочем, зря я так ополчаюсь на свои дни.
Эдик Лимонов!! И Мартина говорит: «Астафьев, Распутин… мысли, идеи, но язык — XIX век!!» А у Лимонова что хорошего? Язык? Где она нашла там язык?! В примитивном мате? В непристойностях?! Ни на йоту воображения и стиля, хоть какого-нибудь! У русского языка нет вчерашнего дня, а если это Ломоносов и Державин, так это превосходно!! Позорище!!
11 февраля 1987
Среда, мой день.
С утра позвонила Мартина: «Бортник — великолепный актер. Этот спектакль на 100 голов выше «Вишневого сада»… Это открытие Горького для французов. Чехова они знают, а Горького не любили. И вот — открытие. То, что нет стены — наполовину снижает замысел Эфроса. Эта декорация — возврат к Станиславскому, к ночлежке, а не к коммуналке Эфроса, когда нары превращаются в трибуны. Но публика этого не заметила, это знаю я… Критика в восторге. Мне беспрестанно звонят. Наша критика. Не знаю, что скажет правая, у нас тут своя борьба и пр.».
От «Русской мысли» не могу оторваться — о Сахарове, о смерти А. Марченко, о политике Горбачева, о Любимове и Тарковском, — все это выглядит здесь совсем по-другому, и напрасно я ляпнул дополнение к словам Аллы… Здесь все по-другому видится, а если продолжительное время побыть здесь, то обязательно белогвардейцем станешь. Максимов написал роман о Колчаке.
А мест свободных много, чего, тем не менее, на «Саде» не было.
12 февраля 1987
Четверг.
Французы потрясены «Дном» — об Эфросе говорят, как о Моцарте, в превосходных степенях — о его режиссуре. Салик купил мне письма Набокова сестре, избранную прозу Ходасевича и стихи его — тоненькую книжицу. Огромное количество пластинок В. Высоцкого образуется у меня: отберут, заподозрив в спекулятивных намерениях.
Читаю в «Русской мысли»:
«Отмечая, что вся западная пресса единодушно называет Любимова гением, критика все же считает, что в США этот спектакль вряд ли будет иметь такой общественный резонанс, как в Советском Союзе, где, как говорит режиссер, „люди страдают от духовного голода“». Гений… и причем единодушный… а тут все ругают его и разводят руками. Изолгались все, пишут что ни попадя, лишь бы «гений» не насмолил лыжи домой.
У театра встретил Леву Круглого. Поговорили о том о сем… О методе Эфроса, который мы не до конца успели освоить, оттого и спектакль, как «пиджак с чужого плеча». Так выразился критик в «Русской мысли» или так передал его мысль Круглый… Сегодня он будет смотреть «На дне».
Самое, оказывается, приятное занятие для меня в Париже — сидеть в номере и писать дневник
15 февраля 1987
Воскресенье.
Н. Трушину Яковлева сказала, что Эфроса доконало письмо труппы Горбачеву, которое он сам вынужден был подписать, и собрание; она сама вызвала ему «скорую помощь» и пр.
17 февраля 1987
Вторник.
Разговор, и долгий, с Любимовым.
— А зачем я ему буду звонить, если он делает такие заявления на пресс-конференции… В разговоре со мной о пресс-конференции он не говорил. Говорил, что я веду себя как флюгер… — В твои годы… У тебя седина есть.
— Лысина!
— Ну, посмотри на лысину…
— Я сказал то, что думал и хотел, чтоб вы это знали… Я не лгу ни перед собой, ни перед вами…
— Не надо так говорить, Валерий, все мы лжем в той или иной степени, вспомни слова Свидригайлова. Я зла на тебя не держу, всего тебе доброго и хорошего… И запомни этот наш ночной разговор… Меня выгнали как собаку, с малым дитем и хотят, чтоб я приполз к ним на брюхе. Они провоцируют меня, и этот наш с тобой разговор записывают, так вот — пусть слушают еще раз…. Эта сволочь Демичев пока у власти, ордена раздает, скольких людей он выдворил из страны… Вам дали подачку — отправили в Париж. Почему вы не поставили вопрос, чтобы поехал восстановленный вами «Дом на набережной?» Сейчас вы поедете в Милан и снова без единого нашего спектакля… Стреллер несколько телеграмм давал Андропову с приглашением театра в Италию. Пусть они поднимут архивы, там все есть… Они объявили меня врагом народа. Пусть отмываются, пусть сперва восстановят мое честное имя… Пусть вернут Сахарову трижды героя, ему памятник в Москве надо поставить… При чем тут театр, когда разговор вышел на другой уровень, на уровень генсека, когда речь идет о судьбе страны…