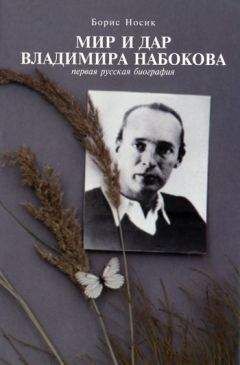По выходе романа в свет и сам автор и первые рецензенты потратили немало сил, чтоб доказать, что в романе нет непристойностей, что это не порнография. А также чтоб разгадать многочисленные лепидоптерические, шахматные, литературные и прочие головоломки, содержащиеся в этом романе. И только автор первой книги о Набокове (молодой набоковед Пейдж Стегнер) начал сводить все вместе, заявив, что рецензенты проглядели художественное воздействие романа в целом: «„Лолита“ — величайший роман Набокова. Конечно же, это и впрямь головоломка, полная намеков и словесных игр, ложных следов и незаметных ключей; это и гротескная картина рекламной Америки, подростковых нравов и прогрессивного образования; это, наконец, трогательная история обезьяны Гумберта, запертой в тюремную камеру неосуществимой любви (конечно, это его любовь к утраченному детству, возвращаемому для него нимфетками) и рисующей решетки этой камеры». Стегнер говорит, что все это — комическое, трагическое, гротесковое, извращенное — сливается в романе и производит огромное художественное воздействие.
Конечно же, Гумберт совершает по отношению к девочке преступление, но вопрос в том — осужден ли он автором? Для набоковедов (в том числе и для москвича В. Ерофеева) это несомненно. Все свое искусство и самую жизнь Гумберт хочет отдать, чтоб сделать Лолиту бессмертной, дать ей жизнь «в создании будущих поколений». «Говорю я о турах и ангелах, о тайне прочных пигментов, о предсказании в сонете, о спасении в искусстве. И это — единственное бессмертие, которое мы можем с тобой разделить, моя Лолита». Другими словами, тема человека, ставшего рабом страсти, соединяется в романе с извечной набоковской темой художника, а также с темой любви, поставленной в неблагоприятные обстоятельства. Один из учеников Набокова, набоковед Альфред Аппель писал, что стремление Гумберта ближе к стремлениям поэта, чем к позывам сексуального извращенца, и это неудивительно, ибо по-своему, хотя и в достаточно искривленном зеркале, они отражают художественные устремления его создателя — Набокова. Это становится очевидно внимательному читателю очень скоро, и об этом более или менее обстоятельно пишут все набоковеды — от Паркера до Джулии Баадер, так формулирующей это наблюдение:
«Через всю „Лолиту“ настойчиво проходит отождествление Гумберта-любовника и Гумберта-художника, повседневного романно-сентиментального существования Лолиты и ее таинственного гумбертовского преображения: „Да и она вовсе не похожа на хрупкую девочку из дамского романа. Меня сводит с ума двойственная природа моей нимфетки… эта смесь в Лолите нежной мечтательной детскости и какой-то жутковатой вульгарности, свойственной курносой смазливости журнальных картинок… в придачу к этому мне чуется неизъяснимая, непорочная нежность, проступающая сквозь мускус и мерзость, сквозь смрад и смерть, Боже мой, Боже мой… И наконец — что всего удивительнее — она, эта Лолита, моя Лолита, так обособила давнюю мечту автора, что надо всем всем и несмотря ни на что существует только — Лолита“».
По мнению Джулии Баадер, отвращение Гумберта к «нормальной большой» женщине соответствует его презрению к банальному словоупотреблению и традиционным общим местам в искусстве. Говоря о трагедии своего отказа «от природной речи», Набоков пишет в послесловии к роману, что он лишен тем самым «всей этой аппаратуры — каверзного зеркала, черно-бархатного задника, подразумеваемых ассоциаций и традиций — которыми туземный фокусник с развевающимися фалдами может так волшебно воспользоваться, чтобы преодолеть по-своему наследие отцов». Дж. Баадер видит в этой фразе некий «ключ к технике преодоления» традиций («наследия») современной прозы.
Двенадцатилетнюю Долорес Гейз, жившую в провинциальной Америке, Гумберт наделяет высшей соблазнительностью и превращает в созданное заново произведение искусства. Однако в ней остается нечто, не поддающееся преображению, нечто угрожающее ее нимфеточной соблазнительности. И вот это нечто (которое он в конце концов и полюбит) оказывается не по плечу самому ее творцу и пересоздателю.
Джулия Баадер отмечает, что характеристики Куильти, Гумберта и Лолиты постоянно смещаются, да и каждая сцена этого романа позволяет несколько версий прочтения. Все это создает впечатление, что роман как бы пишется вот сейчас, сию минуту. Не только зрение Гумберта является призматическим, но и зрение самого автора — и у нас создается не только иллюзорное представление о происшедшем, о том, что рассказал Гумберт, но и о том, что создал автор, — о самом Гумберте. Все ненадежно в этом романе — рассказчик ненадежен, реальность двумысленна. «Реальность» Гумберта — это реальность его желания. И неудивительно, что он проглядел человеческую уникальность своей нимфетки (об этом немало сказано в покаянном финале романа, где Гумберт-сочинитель все чаще выходит из тени: «Спокойно произошло слияние, все попало на свое место, и получился, как на составной картинке-загадке, тот узор ветвей, который я постепенно складывал с самого начала моей повести с таким расчетом, чтобы в нужный момент упал созревший плод…»).
Признавая главенство этой «литературной» темы в его сложном романе, Набоков уточняет в своем послесловии «изящную формулу» одного из его критиков, когда говорит, что книга его все же не отчет о его «романе с романтическим романом» (как предположил критик), а скорее отчет о его романе «с английским языком». Однако здесь же Набоков предупреждает, что со стороны людей, не читавших его русских книг, всякая оценка его английской беллетристики не может не быть приблизительной. Наш же внимательный читатель, уже знакомый с «русским» Набоковым, сразу вспомнит и «Отчаяние», и «Соглядатая», и многое другое: тот же разрыв между страстью и обладанием, и создание романа в романе, и неудача негениального художника, и «ненадежность» рассказчика.
Джулия Баадер рассматривает столкновение Гумберта с Куильти как «ритуальное убийство Гумбертом псевдоискусства»… Грех Гумберта в этом случае заключается в том грубом обращении, которому неопытный художник подвергает хрупкую душу еще не созревшего субъекта. Грех же коммерческого художника Куильти еще более тяжкий… Таким образом, все сложности романа — это воплощение художественных проблем и творческого процесса. Жизнь-воображение неотличима от «реальной» жизни Гумберта. Эти сложности могут раздосадовать читателя, приученного к столь милой нашему сердцу определенности. Однако и вознаграждены мы по-царски — этой удивительной поэтической и трогательной прозой… Брайан Бойд к многочисленным трактовкам «Лолиты» добавляет еще одну: он пишет о Гумберте и Куильти как о героях, вписанных в произведения друг друга…