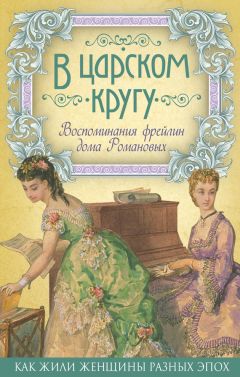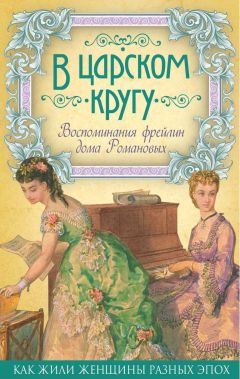Ознакомительная версия.
На другой же день утром Великий Князь Александр узнал от князя Чарторижского, что последний получил приказание в тот же день уехать из Павловска и вскоре отправиться в Италию в качестве посланника от России к королю Сардинии, которого революционная смута и война вынудили покинуть свое государство и блуждать по разным областям Италии, где еще было спокойно.
Великий Князь был крайне поражен. Это назначение слишком походило на ссылку, чтобы можно было ошибиться; и ни он, ни князь Чарторижский нисколько не сомневались по поводу этого. Великий Князь поспешил к своей супруге. Он сообщил ей о своем горе, и оба терялись в поисках причины, которая могла бы так внезапно вызвать это событие. Их Императорские Высочества простились с князем после обеда. До них дошли слухи, что некоторые лица пытались объяснить это удаление причиной, очень оскорбительной для Великой Княгини. Она была глубоко возмущена этим, и на ее лице были еще следы того чувства, когда она вечером вошла к Государю.
Войдя в комнату, где обыкновенно дожидались его Великие Княгини, он, не говоря ни слова, взял за руку Великую Княгиню Елизавету, повернул ее так, что свет падал на ее лицо, и уставился на нее самым оскорбительным образом. Начиная с этого дня, он не говорил с ней в течение трех месяцев.
В тот же вечер граф Толстой, который, казалось, искренно интересовался этим событием, убедился из намеков Государя, что его мнение относительно чистоты поведения Великий Княгини поколебалось. Тогда Толстой предложил раскрыть всю эту интригу, и вот как передавал он потом, что будто бы он узнал от Кутаисова.
«Александр I и Елизавета Алексеевна». Художник Пьетро Кросси. 1800–е гг.
В тот момент, когда Императрица принесла маленькую Великую Княжну к Императору, в кабинете был он, Кутаисов и граф Ростопчин. Императрица обратила внимание Императора на ту странность, что Великая Княжна была брюнеткой, тогда как Великий Князь Александр и Великая Княгиня Елизавета оба были блондины. Когда она вышла, Император остался вдвоем с графом Ростопчиным, и последний, выйдя из кабинета Его Величества, распорядился, чтобы приготовили приказ об назначении и отъезде князя Чарторижского.
Таким образом, из этого следовало, что возбудил подозрения Государя против Великой Княгини граф Ростопчин. Но что могло его к этому побудить? Между ними никогда не было вражды, и князь Чарторижский до сего времени не мог пожаловаться на него. Он поступил так не иначе, как по наущению моего мужа, который давно уже питал неприязненное чувство к Чарторижскому, а также мог желать отомстить Великому Князю. Вспомнили все, что мне сделали, чтобы помешать дружбе Великого Князя с Чарторижским. Никогда я не скрывала своих чувств относительно последнего.
При всяком случае я доказывала ему, что предпочитаю свои убеждения милости двора; но предполагали, что другие мотивы руководили нами, и решили, что мой муж и я принесли в жертву репутацию Великой Княгини желанию удовлетворить чувство личной вражды и наслаждению мести.
Меня очень огорчали страдания Великой Княгини, и я была далека от мысли, что меня обвиняют в них. Она более не сомневалась, что я была причиной неприятностей, испытываемых ею. В первой молодости самое крайнее кажется наиболее вероятным. Верят в самые высшие добродетели; но когда обстоятельства принуждают увидеть дурную сторону души человеческой, скорей поверят в самое мрачное преступление, чем в артистически сплетенную интригу.
Это первое разочарование жизни распространялось на предметы, слишком соприкасающиеся и близкие сердцу Великой Княгини, чтобы не причинить ей сильного горя. Она думала, что ей повредила самым чувствительным образом особа, которую она нежно любила и привязанность которой она считала неизменной. Ее репутации угрожали. Поступок с нею Государя обвинял ее публично. Ничто не могло защитить ее, и всему этому причиной она считала меня. Ее сердце было изранено. Но скоро все–таки негодование придало ей силы; решение не показывать вида тем, кто огорчил ее (кто бы это ни был), что они достигли своей цели, возвратило ей самообладание в свете. В глубине своей души она старалась удалить мысль о моем муже и обо мне. С тех пор она стала смотреть на нас как на открытых врагов.
Двор, по обыкновению, проводил конец весны, лето и начало осени в Петергофе и Павловске. Характер Императора Павла становился все более и более вспыльчивым, а поведение – произвольным и странным. Однажды весною (это случилось перед отъездом на дачу), после обеда, бывшего обыкновенно в час, он гулял по Эрмитажу и остановился на одном из балконов, выходивших на набережную. Он услыхал звон колокола, во всяком случае не церковного, и, справившись, узнал, что это был колокол баронессы Строгановой, созывавший к обеду. Император разгневался, что баронесса обедает так поздно, в три часа, и сейчас же послал к ней полицейского офицера с приказом впредь обедать в час. У нее были гости, когда ей доложили о приходе полицейского. Все были крайне изумлены этим посещением; но когда полицейский исполнил возложенное на него поручение с большим смущением и усилием, чтобы не рассмеяться, то только общее изумление и страх, испытываемый хозяйкой дома, помешали присутствовавшему обществу отдаться взрыву веселости, вызванному этим приказом совершенно нового рода.
Анекдот быстро распространился в городе, толки вокруг этого случая дали повод злонамеренным людям находить у Государя расстройство рассудка, и эта тирания, распространявшаяся даже на домашнюю жизнь, раздражала всех. Распорядившись отобрать во всех книжных лавках произведения Вольтера и Руссо, он запретил ввоз каких бы то ни было книг в Россию. Точность, с которой исполняли этот приказ, была поводом к очень неудобной сцене, происшедшей в Павловске.
Великие Князья, Великие Княгини и весь двор дожидались Их Величеств в маленьком особом саду Государыни, чтобы оттуда отправиться на прогулку верхом, что было очень принято при дворе в том году, как и в предыдущем. Все собрались у окон нижнего этажа апартаментов Их Величеств. Слышно было, как Император прошел от себя к Императрице, и вскоре потом послышался разговор в повышенном тоне. Государыня говорила с упреком и плача. Государь отвечал резко, и хотя нельзя было разобрать слов, великолепно были слышны все интонации.
Сцена продолжалась. Аудитория, собравшаяся в садике, хранила самое глубокое молчание; смотрели друг на друга со смущенным видом, не зная, что из всего этого выйдет. Государь появился в очень дурном настроении и сказал Великим Князям и остальному обществу:
– Отправляемся, сударыни; на лошадь!
Пришлось последовать за ним, не смея дожидаться Императрицы, появившейся минуту спустя с опухшими глазами и недовольным видом.
На следующий день узнали причину этой сцены: Государыня выписала из–за границы книг, но таможня, не получив приказа сделать для нее исключения из общего правила, задержала адресованные ей книги. Государыня узнала об этом и пожелала показаться оскорбленной. Она выбрала момент, когда Государь собирался выходить, и пожаловалась ему на недостаток уважения, который проявили к ней, как казалось, с его разрешения. Император, хотя и был раздражен и доведен до крайности, отдал приказ исправить ошибку. Все справедливо удивлялись, что Государь, при своем вспыльчивом характере, так долго выносил мелочность Императрицы и отсутствие у нее чувства такта и меры.
В течение нескольких месяцев Пален преследовал и мучил Великого Князя Александра, чтобы добиться от него согласия на низложение его отца. Наконец, он стал угрожать Великому Князю революцией и резней, уверяя, что только отрешение от престола Павла I может спасти государство и его. Он добился от Великого Князя согласия навести справки, каким образом подобные отречения производились в других странах. Тогда у графа Панина начались собрания посланников. Графу Толстому поручено было опросить их. Пален удалив Ростопчина, единственного человека, стоявшего на дороге его преступных замыслов, начал приводить их в осуществление. Заговор быстро развивался. Заговорщики собирались у князя Зубова; но, несмотря на всю таинственность, которой они облекли это дело, Император узнал, что злоумышляют против него. Он призвал Палена и спросил, почему он не доложил ему об этом. Тот дерзко поклялся, что не было ничего серьезного, что несколько молодых безумцев позволили себе вольные речи и что он образумил их, подвергнув аресту у генерал–прокурора. Он прибавил, что его Величество может положиться на его верность, что он предупредит Императора о малейшей опасности и разрушит зло в самом его корне.
Через три дня он решил нанести решительный удар. Он пришел к двери кабинета Императора и попросил позволения говорить с ним. Он вошел в кабинет с видом, полным отчаяния, и, упав на колени, сказал:
Ознакомительная версия.