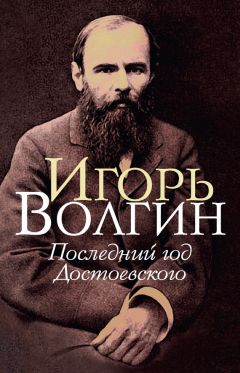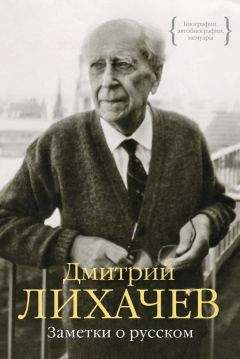Признание Анны Григорьевны, вырвавшееся в горячую минуту, находит серьёзную опору и в текстах самого Достоевского. Ведь то, о чём «теоретик» Иван Карамазов толкует в келье старца Зосимы, другой теоретик – Владимир Соловьёв – пытается «провести на практике»: ввиду воздвигавшихся на Семёновском плацу шести виселиц.
Самодержавие предпочло послушаться государственника Победоносцева, а не идеалиста Владимира Соловьёва.
Но пора вернуться назад – к зиме 1880 года.
Глава IV. Портрет с натуры
Зима 1880 года. Продолжение
Если пересмотреть дневниковые записи, которые вели в 1879–1880 годах видные деятели царствования – председатель Комитета министров П. А. Валуев, военный министр Д. А. Милютин, государственный секретарь Е. А. Перетц, сенатор А. А. Половцев и другие, – можно убедиться, что, пожалуй, ни один из них не сохранил душевного спокойствия. «Кризис верхов» выражался не только в судорожных действиях правительственной администрации, но и в необычных умонастроениях её главных руководителей.
Летом 1879 года, вернувшись вместе с императорской семьей из Крыма, Д. А. Милютин записывает: «…Я нашёл в Петербурге странное настроение: даже в высших правительственных сферах толкуют о необходимости радикальных реформ, произносится даже слово “конституция”; никто не верует в прочность существующего порядка вещей»[107].
Год заканчивался; выхода пока не предвиделось.
В декабрьском номере «Отечественных записок» М. Е. Салтыков-Щедрин писал: «Год приходит к концу, страшный год, который неизгладимыми чертами врезался в сердце каждого русского»[108].
В своём интимном дневнике наследник престола (будущий Александр III) с присущей ему любовью к определённости делает вывод, что «самые ужасные и отвратительные годы, которые когда-либо проходила Россия, – 1879 и начало 1880»[109].
Разумеется, Салтыков-Щедрин и Александр Александрович имели в виду весьма различные вещи. Но ощущение неблагополучия, неуверенности, разлада, предчувствие близкой катастрофы были всеобщими.
Что принесёт новый, 1880 год? Этого Достоевский не знал.
Его давний приятель – Яков Петрович Полонский – печатно гадал о ближайшем будущем (почему-то – размером лермонтовского «Мцыри»):
…И пусть из нас никто не пьёт
За новый, в мир грядущий год.
Идёт с закрытым он лицом,
С неведомым добром и злом,
Не разглашая наперёд,
Какое знамя он несёт.[110]
Стихотворение называлось «Беспутный год»: подразумевался год минувший.
Шестнадцать смертных казней и три дерзких посягновения на особу государя – такой статистики Россия ещё не знала.
Последнее покушение пришлось на конец года и не походило ни на одно из предыдущих.
19 ноября, в одиннадцатом часу вечера, рвануло на третьей версте Московско-Курской железной дороги: гром был слышен в Первопрестольной. Минную галерею подвели под железнодорожное полотно прямо из расположенного неподалёку дома. Будущий сосед Достоевского, Александр Баранников, хотел лично сомкнуть гальваническую цепь: за ним и так уже числился Мезенцов. Но – не знал, как обращаться с аппаратом, и операцию доверили другому.
Императорский состав проследовал первым; с рельсов сошёл второй поезд – свитский. Счастье снова улыбнулось государю: обычно поезда двигались в обратном порядке.
В дело впервые вступил динамит.
Это было необычно и современно: романтические пуля и кинжал явно уступали новому устрашающему оружию. В русский язык входило новое слово: «динамитчик».
…Зима 1880 года перевалила на вторую половину. Анна Григорьевна быстро оправилась от простуды (она не любила залёживаться), и жизнь постепенно наладилась.
По четвергам его приглашали две дамы – уже упомянутая выше Софья Андреевна Толстая и её племянница – Софья Петровна Хитрово.
Вдова Алексея Константиновича Толстого по прихоти судьбы обладала тем же титулом, именем и отчеством, как и жена автора «Войны и мира». Пятидесятишестилетняя С. А. Толстая, не имея собственных детей, обожала племянницу Софью Петровну (в которую, к слову, много лет был безнадёжно влюблён Владимир Сергеевич Соловьёв). Она выдала её за дипломата, но, памятуя о печальной участи Грибоедова, нашла более справедливым, чтобы он отстаивал русские интересы в Персии один – без семьи. Софья Петровна Хитрово с детьми были поселены в доме С. А. Толстой.
Сорок лет спустя, уже в двадцатые годы XX столетия, одна старая дама из высшего русского общества встретила в Швейцарии дочь Достоевского: та доживала свои дни на европейских курортах. «Когда графиня Софья, – доверительно призналась эта дама Любови Фёдоровне, – приглашала нас на свои вечера, мы приходили, если у нас не было более интересных приглашений; когда же она писала: “Одной из нас Достоевский обещал прийти”, тогда забывались все другие вечера, и мы прилагали все усилия, чтобы явиться к ней»[111].
Салон С. А. Толстой – один из немногих петербургских салонов, соединявших в себе политику и литературу.
В апреле 1877 года Н. Н. Страхов, регулярно посвящавший Льва Толстого в события своей и чужой жизни, сообщает ему следующие подробности о графине: «Она, да и ещё и другая дама, её приятельница (очевидно, С. П. Хитрово. – И.В.), – большие охотницы до философии, много читают и даже ходили до этого в Публичную Библиотеку… Графиня очень учёна, даже знает по-санскритски несколько… На женскую учёность я смотрю, как Вы; но тут всё имеет такие большие размеры, что если это одна фальшь – то грустное и странное явление».
Характеристика, как часто бывает у Страхова, двусмысленна: с одной стороны, ему явно льстит это интеллектуально-светское знакомство, с другой – он старается сохранить по отношению к учёной графине известную ироничность. Впрочем, автор письма вынужден признать, что графиня Софья Андреевна «очень проста и мила; ум ей приписывают необыкновенный».
В начале 1880 года Н. Н. Страхов попадает наконец в дом. «Затем большое событие, – адресуется он к жене Льва Толстого, – я был… у графини С. А. Толстой, Вашей тёзки… Там я нашёл Гончарова и Достоевского, которые, говорят, не пропускают ни одного четверга… Большой свет состоял из Игнатьева (будущий министр внутренних дел. – И.В.) и дам, которых, к несчастью, невозможно было рассмотреть в модном полумраке. Графиня считается женщиной необычайного ума, и любезна необыкновенно, так что я почувствовал желание подражать Гончарову и Достоевскому. Только нет у меня такого фрака с открытою грудью, в каких они сидели и какие Вл. Соловьёв считает решительным бесстыдством»[112].
Дружба с С. А. Толстой – одна из немногих привязанностей позднего Достоевского.
«Хотя моя мать, – вспоминала Любовь Фёдоровна, – и была несколько ревнива, она не возражала против частых посещений Достоевским графини, которая в то время уже вышла из возраста соблазнительницы». Соблазну иных посещений «он предпочитает комфорт и сдержанную элегантность графини Толстой»[113].
Действительно: как только девятая книга «Карамазовых» была отправлена в Москву, он не замедлил появиться в доме, который, по словам Мельхиора де Вогюэ, напоминал гостиные Сен-Жерменского предместья.
Секретарь французского посольства в Петербурге виконт Мельхиор де Вогюэ был непременным посетителем салона. Трудно сказать, отличался ли он какими-нибудь выдающимися талантами на поприще внешней политики. Но он совершил то, что превосходит самый блистательный дипломатический успех. Он познакомил Запад с русским романом, открыв для европейского читателя имена Толстого и Достоевского.
17 января 1880 года был четверг. Вернувшись от графини С. А. Толстой, где он в этот вечер встретил автора «Карамазовых», «первый славист» записывает в дневнике: «Любопытный образчик русского одержимого, считающего себя более глубоким, чем вся Европа, потому что он более смутен. Смесь «медведя» и «ежа». Самообольщение, позволяющее предвидеть, до каких пределов дойдёт славянская мысль в её ближайшем большом движении. «Мы обладаем гением всех народов и сверх того русским гением, – утверждает Достоевский, – вот почему мы можем понять Вас, а Вы не в состоянии нас постигнуть»[114].
В этой внутренней полемичной записи, как будто ещё хранящей жар недавнего спора, Мельхиор де Вогюэ зафиксировал (правда, в сильно преувеличенном и, кажется, не вполне адекватном виде) некоторые мотивы будущей Пушкинской речи. Ещё остаётся целых полгода до открытия памятника на Тверском бульваре в Москве; ещё сам автор «Речи» и не подозревает о своём будущем триумфе. Однако слово уже готово сорваться с губ.
…Ночи, как всегда, были отданы «Карамазовым». Днём – обычно после двух (хозяин ложился около семи и поднимался поздно) – являлись посетители: всякие. Немало сил отнимали и литературные вечера, которые всё более входили в моду, несмотря на неспокойствие политическое.