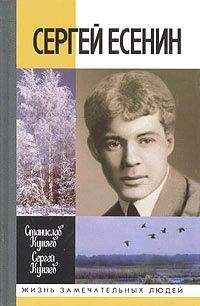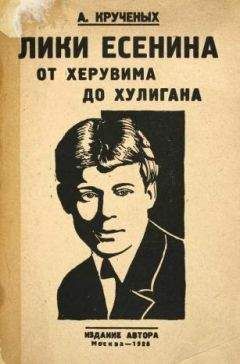Трудовая жизнь Есенина сразу же осложнилась чрезвычайным событием. Буквально и двух недель не прошло после его устройства на работу, как он попал в центр сомнительной политической интриги: неизвестно при каких обстоятельствах Есенин подписал письмо «пяти групп сознательных рабочих Замоскворецкого района», которое, как пишет один из исследователей жизни Есенина, «резко осуждало раскольническую деятельность ликвидаторов и антиленинскую позицию газеты „Луч“».
Дело это было сугубо партийное, склочное, сектантское, в его основе лежали противоречия между семью депутатами-меньшевиками и шестью депутатами-большевиками, которые составляли в Государственной думе одну социал-демократическую фракцию. «Семерка» имела перевес в один голос перед «шестеркой» и проводила какую-то «ликвидаторскую платформу». Письмо, подписанное пятьюдесятью «сознательными рабочими», среди которых была и подпись Есенина, начиналось так:
«Мы, нижеподписавшиеся, пять групп сознательных рабочих Замоскворецкого района гор. Москвы, прочитав в газетах „Правде“ и „Луч“ о тех разногласиях, какие существуют среди депутатов с.-д. фракции и рабочей прессой, мы приветствуем отказ шести депутатов от сотрудничества в газете „Луч“… Мы возмущаемся тем насилием, производимым семи против шести, которые лишают последних возможностей проводить взгляды пославших их, требовать осуществления тех начертанных старых лозунгов, за которые боролись и пали жертвой наши товарищи в 1905 году… Ликвидаторы, приспособляясь к национальным чувствам народности, идя к им навстречу, для того чтобы привлечь их в свой лагерь, выставляют требования: „Культурно-национальную автономию“. Этим самым ослабляют единство пролетариата России к Интернационалу. Идя на компромисс с правительством и реакцией, выставляют требования полного народного представительства, а не полновластие народа… Мы глубоко возмущаемся узурпаторством семерки против шести. Если они будут уклоняться и дальше от старопрограммных требований… прикрываясь единством, а в принципе делая раскол, то мы их более не можем признать, как принадлежащих к с.-д. п. …Кто же является в действительности раскольником, антиликвидаторы, признающие подполье и партию, объединившись вокруг газеты „Правды“… или, может быть, ликвидаторы „Луча“, ведущие борьбу против подполья и старой партии?» И т. д. и т. п.
Мы так подробно цитируем это полуграмотное, написанное на революционно-местечковом жаргоне письмо только потому, что оно наглядно свидетельствует, как задолго до 1917 года в недрах социал-демократии уже вырабатывался склочный, сектантский, мертвенно-бюрократический стиль борьбы за власть, как легко эти косноязычные штампы перешли в резолюции и постановления партсъездов и партконференций двадцатых годов, в формулировки о «правом» и «левом» уклонах, о всяческих «троцкистских», «военных», «рютинских», «шляпниковских», «профсоюзных» и прочих оппозициях. Как естественно, что это письмо, написанное якобы «пятью группами сознательных рабочих», но на самом деле составленное каким-то партийным функционером, хорошо знавшим расстановку внутрипартийных сил, настроения и политику партийных лидеров, живших в это время то ли в Швейцарии, то ли в Париже, стало на десятилетия «праосновой» всех документов подобного рода, писавшихся от имени «сознательных рабочих», «общественности» (обязательно «прогрессивной»), крестьянства (обязательно «трудового»), пролетариата (обязательно «мирового»). Впрочем, стиль этот сложился еще в 70-е годы XIX века. Народнические штампы практически без изменений перекочевали в документы, составленные марксистами. Манифест «Народной расправы» или лавровские статьи мало чем отличались от документов плехановской группы «Освобождение труда».
Несомненно, что стратегия письма вырабатывалась ленинским окружением или даже самим Лениным, писавшим приблизительно в это же время: «Каждый русский социал-демократ должен сделать выбор между марксистами и ликвидаторами». Неудивительно, если Ильич был прямо или косвенно причастен к тексту письма. Оно в его стиле: его въедливая казуистика, его демагогический напор, его сектантская ярость.
А характерные штампы вроде «мы, нижеподписавшиеся», «мы приветствуем», «мы глубоко возмущены», «мы их более не можем признать», «мы предлагаем», выработанные в письме, утвердились на десятилетия как образцы классического железобетонного стиля для сотен и тысяч писем и постановлений подобного рода, без которых просто невозможно себе представить историю РСДРП.
Ну разве можно поверить в то, что Есенин, думающий в это время о тайнах Бога и Человека, действительно разбирался в сектантско-подпольной казуистике этой меньшевистско-большевистской склоки? Мог ли он вникнуть в политические хитросплетения всяческих Малиновских, бадаевых, петровских и прочих социал-демократов, заваривших сию кашу? Есенин, вопрошающий в письмах к Грише Панфилову – «что есть Христос?», Есенин, буквально в те же дни писавший умирающему другу: «…люби и угнетателей и не клейми позором, а обнаруживай ласкою жизненные болезни людей»? И вдруг: «ликвидаторы», «антиликвидаторы», «платформы», «фракции»! Есенин, который их речей, их программ, их внутрипартийных злобных и мелких распрей уже и тогда, конечно, «ни при какой погоде» не читал, и чтобы он «сознательно» подписал письмо, инспирированное какими-то функционерами как «мнение народное»? Есенин, всего только как две недели ставший рабочим-экспедитором (то есть грузчиком) при типографии? Есенин, в то время запоем читавший Блока, Клюева, Андрея Белого?
Об этой, видимо, совершенно случайно поставленной юношей подписи приходится говорить столь подробно потому, что история с письмом сыграла определенную роль в его судьбе. Она привела к полицейскому расследованию дела (письмо, адресованное депутату Государственной думы Р. Малиновскому, попало в полицию), к поискам упомянутых «сознательных рабочих», а в конце концов даже к слежке за Есениным и к двум обыскам на квартире, которую он тогда снимал. Несколько месяцев полиция разыскивала «подписантов». Дело было не простым: одних «Есениных», как сообщил адресный отдел охранному отделению, в Москве в то время проживало аж 200 человек. Лишь через несколько месяцев после появления письма полиция всех «вычислила» и вышла на Сергея. За ним в начале ноября на целую неделю было установлено наружное наблюдение, был заведен специальный журнал, на обложке которого значилось: «1913 год. Кличка наблюдения – „Набор“. Установка: Есенин Сергей Александрович, 19 лет». Царская бюрократия бросила вызов бюрократии социал-демократической. Целую неделю филеры добросовестно заносили в журнал – в какое время Есенин выходил на работу, в какое – возвращался, когда заходил в «мясную и колониальную лавку», когда к нему на свидание приходила его гражданская жена Анна Изряднова. Ей тоже дали кличку – «Доска». Следили, писали, наблюдали целую неделю, а потом, видимо, решили, что толку не будет. На всякий случай в ноябре произвели на квартире Есенина второй обыск. Первый был в сентябре. Ничего не нашли. Никаких прокламаций, никакой социал-демократической брошюрятины. И отстали.