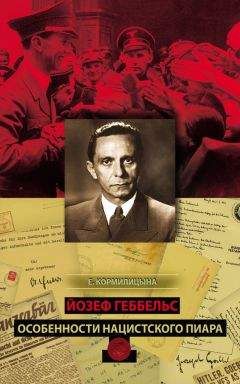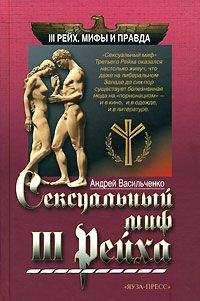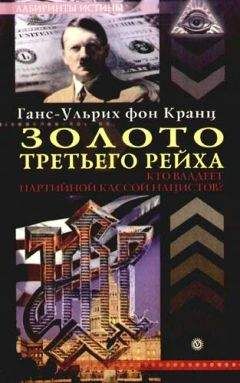Рядовой в топографическом взводе, он однажды удивил артиллеристов своим мастерством, рисуя панорамы, и с той поры утвердился в штабе на внештатной должности художника.
Воевал Прозоровский, как и Клименко, от Москвы до границы и дальше, медаль "За отвагу", поблескивала на новой гимнастерке, которая висела в углу блиндажа на деревянных плечиках над койкой художника.
- Присаживайтесь, мой друг, дорогой земляк, прямо на эту кровать, она и троих выдержит, - сказал Прозоровский, когда мы влезли в блиндаж.
Он освещался керосиновой лампой, смастеренной из медной снарядной гильзы. Света было достаточно. Красноватые блики растекались по стенам из березовых чурок. Я догадался, что артиллеристы "березовые стены" возят с собой.
- Память о России, - пояснил Прозоровский, - и как-то мило осветляют землянки здесь, в Германии. Боже ты мой, ведь когда-то я приезжал в Берлин в командировку! - неожиданно вспомнил он. - Жил в гостинице около Александерплац. Ходил в оперу на Унтер-ден-Линден. Могло ли мне тогда прийти в голову, что я буду спать в землянке в берлинском пригороде и рисовать панораму для стрельбы по Александерплац?
Прозоровский развел руками.
- Это даже не под силу могучей фантазии романистов-классиков!
- Жизнь сложна, Борис Глебыч, - сказал я, - знаю и по своему малому опыту, и полна удивительных неожиданностей. Для некоторых даже и сама война оказалась роковой неожиданностью.
- Не для меня, нет! Я никогда не строил никаких иллюзий, думая о фашистах. Я внутренне содрогался при мысли о возможности какого-либо компромисса с ними и вообще оттого, что они живут на свете.
- Но в военкомат для аттестации вы все-таки не нашли время зайти?
- В военкомат? Грешен! Но, честное слово, нет худа без добра. Вот рисую панорамы. Когда надо - стреляю. Там, за нашей границей, случалось, что и штаб в полном составе шел в атаку с автоматами и гранатами. Вы же знаете. И ваш покорный слуга не праздновал труса.
Сказав это, Прозоровский нагнулся и полез под койку. Оттуда он вытащил фибровый чемодан и, щелкнув замками, открыл его.
Чемодан на фронте мне всегда казался вещью из другой, мирной жизни. Я сам воевал солдатом, некоторое время служил в артиллерийском полку, мне ли не знать, что все скромные солдатские пожитки укладываются в удобный заплечный мешок. Поэтому я не без удивления взглянул на Прозоровского.
- Для панорам, - коротко пояснил он.
В чемодане Прозоровский хранил и, конечно, с большим трудом таскал за собой коллекцию картин, которые он рисовал под Малоярославцем и Вязьмой, на Днестре и у Рославля, в верховьях Днепра и в смоленских лесах, в Полесье и под Варшавой, на Одере и под Берлином.
Я устроился на кровати, широко расставив ноги, а Прозоровский, бережно вынимая из чемодана, укладывал листы на мои колени.
- Сколько их у вас?
- Много, мой друг! Вышла бы картинная галерея. Правда, вы не видите здесь людей. Но они все в моей памяти связываются с этими пейзажами, живые и мертвые.
Я спросил, сохранилась ли у Прозоровского квартира в Москве, чтобы после войны разместить там на стенах это необычное собрание картин.
- Квартира сохранилась, но пустая. Неделю назад я получил из дома письмо. Жена попала под трамвай, И погибла. Вот вам судьба! Я четыре года воюю и жив. А она там, в Москве...
Прозоровский встал, чтобы я не видел его глаз, наполнившихся слезами. Чтобы успокоиться, он вышел из блиндажа, но вскоре вернулся.
- Простите. Нервы уже стариковские - не держат. Я не говорю о том, что мы, любя, прожили двадцать лет душа в душу. Но во время такой войны попасть под трамвай... Как все это ужасно нелепо и горько!
Я выразил Прозоровскому свое самое искреннее сочувствие.
- Не будем больше об этом. Мои панорамы вам понравились. Спасибо. Они нравятся и в. полку. Я не Левитан, конечно. Но, поверьте, старался вложить в эти пейзажи всю свою любовь к России, всю нежность, всю душевную силу. И мне кажется, эти картины, в общем, не просто расчетные панорамы, они эмоционально помогали воевать нашим артиллеристам...
...Я уехал из дивизиона Клименко вскоре после того, как батареи открыли огонь по Берлину. От выстрелов лопались стекла на террасках и дрожали стены. Надо было резко напрягать голос, чтобы собеседник, стоящий рядом, мог что-либо понять. Именно в этот момент уставший Прозоровский лег отдохнуть в своем блиндаже.
К сожалению, я не встречал его больше на дорогах войны. Не видел я его и в Москве. И мне не хочется думать, что эти пейзажи, созданные бойцом-художником, увиденные таким необычайным способом - через наблюдательную щель в блиндаже или в окуляры стереотрубы, - что эти картины земли нашей, польской и немецкой могли затеряться где-нибудь среди имущества артиллеристов, на военных дорогах.
Встреча на дороге
Об этом хочется рассказать кратко потому, что слова бессильны, они не могут выразить всю бездну муки и горя, и потому, что, как сказал поэт еще в годы войны: "Об этом нельзя словами, огнем, только огнем!"
Я имею в виду паши встречи с людьми, угнанными в Германию из всех стран Европы. Их было свыше пяти миллионов. Значительную часть своих пленников гитлеровцы согнали в Берлин. И вот теперь, в последние дни апреля, колонны беженцев двинулись из города. Они выходили из горящих кварталов, из домов и улиц, по которым стреляли пушки, из самого пекла боя. Начался незабываемый исход народов Европы из Берлина.
Мы видели эти толпы беженцев и раньше на всех дорогах Восточной Германии, но особенно много их было вблизи немецкой столицы.
Как раз в эти дни в одном из полицейских управлений в Альт-Лансберге, среди брошенных гитлеровцами бумаг, мне попался в руки документ, о котором сейчас нельзя не вспомнить. Это были "Указания по обращению с иностранными рабочими из гражданского населения, находящимися в Империи". Пожалуй, особого внимания заслуживают эти "Указания", - относящиеся к так называемым "восточным рабочим" - советским людям.
Вот краткие выдержки из этих правил: "Восточные рабочие носят знак "ОСТ" (прямоугольник с бледно-голубой окантовкой, на синем фоне белыми буквами написано слово "ОСТ").
Восточных рабочих содержать в закрытых лагерях, построенных специально как лагеря для рабочих, под постоянной охраной.
На мелких сельскохозяйственных предприятиях или в одиночных хозяйствах, может быть разрешено помещать рабочих вне лагеря, в хорошо запирающемся помещении, где есть немец-мужчина, который может взять на себя функции контроля.
Половая связь между немцами и восточными рабочими запрещена и карается для восточных рабочих смертью, для немцев отправкой в концентрационный лагерь.
Восточные рабочие имеют право пойти к врачу только в сопровождении немцев".